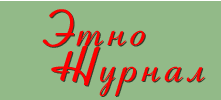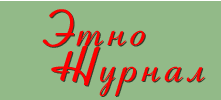Библиотека
С.В.Соколовский
ПОЛЕ, КОТОРОЕ НЕ ПОКИДАЕШЬ…
(автоэтнографические этюды)
Этот экспериментальный текст был написан по двум совершенно по отношению к нему внешним поводам, одним из которых была конференция по поводу власти, а другим - столь же высокое ученое собрание о вещах. "Встреча" именно этих, а не каких-либо других тем в его рамках также остается незапланированным рефлексом "антропологического взгляда", если угодно, принципиальной непокидаемостью поля и полевой ситуации для всякого, уже перешагнувшего воображаемый "порог" между миром освоенным и насильственно остраняемым. Предлагаемый ниже текст - лишь одна из многочисленных реплик в диалоге с профессиональным сознанием, счеты к которому предъявляются не только философами и "публикой", но и "изнутри" дисциплинарных сообществ - самими носителями этого сознания. Темы же власти вообще и власти особого рода - власти вещей - оказываются интимно связанными с ключевы-ми мотивами критики современного сознания[1] , которое продолжает определяться и контроли-роваться структурами сознания профессионального.
Таким образом, при всей случайности поводов, заставивших меня обратиться к этим сюжетам, сами они не случайны для нашего времени, то есть, "симптоматичны", если использовать медицинский жаргон социальной диагностики. Еще менее случаен выбор жанра, о котором стоит поговорить особо. Дело в том, что в созданном в основном заботами профессионального сознания каталоге жанров, с приписанными каждому из них нормами и ценностями и заранее "параметризованными" аудиториями, не находится места для различных манер письма, противостоящих научно-техническому проекту расколдовывания мира. Переживаемое нами время в этом смысле парадоксально: мы живем на излете великого проекта эпохи Просвещения, философские основания которого уже отвергнуты как несостоятельные, однако выросший на их основе мир практик, в том числе и практик научного исследования и письма, продолжает бытовать и определять профессиональные стратегии взаимодействия с миром. Не претендуя на охват и описание этого огромного поля противостояния отживающих свой век и новых форм, я ограничиваю свою задачу рассмотрением частных аспектов производства знания в сравнительно узкой области, определяемой все чаще как социальная и культурная антропология и называвшейся у нас прежде просто этнографией.
В советской и постсоветской (российской) этнографии, несмотря на происходившие с конца 1980-х гг. зримые сдвиги в тематике исследований (и довольно заметные - в методологии и методике), жанровый репертуар остается практически прежним: канон статьи, написанной для профессиональной аудитории, в своих основных параметрах не поколеблен; все прочие жанры - маргинальны[2] . Это выглядит даже как любопытная аномалия на фоне углубляющейся интеграции российской этнографической науки в мировую и царящего там разгула экспериментальных жанров.
Обращение к экспериментальным жанрам в этнографии было спровоцировано критикой используемых приемов и методов исследования и, в частности, критикой стратегии объективации - процедуры, не только превращающей всех представителей изучаемых этнографами сооб-ществ в объекты, но и тщательно маскирующей следы присутствия автора в финальном описании. Читатель, в итоге, получал "объективный" портрет описываемого этнографом общества, который создавал иллюзию, что изучаемые (изучаемое) говорят от самих себя и сами. Эта стилизация социального под естественнонаучные "природные" процессы и явления, натурализация увиденного этнографом в поле и были заподозрены в качестве стилистических стратегий убеждения[3]. Между тем, для российских этнографов связь жанра и метода остается малоочевидной и недостаточно, в силу этого, вопрошаемой, хотя даже поверхностное сопоставление стратегий исследования и письма заставляет признать, что существует не только детерминация по линии 'выбор метода - выбор жанра', но действует и обратная цепочка: освоенные жанры диктуют выбор стиля исследования и направленность вопрошания. Уже один только этот мо-мент позволяет увидеть, что ограниченность жанрового репертуара приводит к ограниченности представлений об изучаемом, а аспектность, порождаемая конкретными жанрами, ведет к ка-чественно различающимся теоретическим редукциям.
Неочевидность этих связей в нашей антропологической практике и в российском общество-ведении в целом, как мне кажется, была в известной степени предопределена современными особенностями институционализации дисциплинарного знания в России: междисциплинарные барьеры, несмотря на ослабивший их эпистемологический кризис середины 1980-х - начала 1990-х гг., остаются существенными препятствиями для междисциплинарного обмена идеями. Например, новые подходы в литературоведении и литературной критике, изменившие до неуз-наваемости облик антропологии в США, практически не повлияли на состояние отечественных общественных дисциплин. В российской этнографии находки "Новой критики" остаются, по существу, неизвестными, а питавшие эту критику идеи континентальной философии (главным образом, французской) проникают окольными путями - через ту же американскую антрополо-гию, а не непосредственно, невзирая на доступность переводов основных текстов. Я обращаю внимание читателей на эти обстоятельства в связи с тем, что именно этот круг идей, который получил наименование деконструктивизма, или постмодернизма, способствовал установлению большей открытости дисциплин к 'внешним' влияниям и обнаружил всю глубину взаимосвязей жанра и метода, заставив такого мэтра американской антропологии как Клиффорд Гирц определить сам антропологический подход к действительности в терминах Г. Райла как 'густое описание', или, в более поздней редакции, как манеру письма.
Упомянутая прежде стратегия объективации не являлась отличительной чертой советской и постсоветской этнографии, однако именно в них она продолжает удерживать свои позиции, при этом практикующие ее авторы игнорируют не только эпистемологически ориентированную критику, но и весьма серьезные упреки этического свойства. Эта стратегия, помимо стирания из текста следов присутствия автора, основана на разрыве между 'полем' и 'столом', местом, где этнограф наблюдает и изучает, и привилегированным (в смысле защищенно-сти) местом описания другой культуры, а также на разрыве между исследователем и исследуемыми, субъектом изучения и его объектами.
Болезненные этические проблемы, сопряженные с субъект-объектной парадигмой, неодно-кратно обсуждались в литературе и становились предметом не только острых дискуссий, но и, своего рода, концептуальных скандалов, повлекших за собой радикальный пересмотр основ антропологической практики[4]. Одним из исходов из концептуального тупика, в котором оказалась постколониальная антропология и антропологическое сообщество, стало "возвращение антропологии домой", то есть обращение антропологов к изучению собственных народов, об-ществ и культур. Наиболее радикальным и методологически мощным из исходов, снимающим многие из противоречий и разрешающим ряд стоящих перед антропологами проблем, стало, однако, обращение к жанру автоэтнографии, трактуемому как этнография сообщества антропологов, во-первых, и как автобиографическая этнография, во-вторых [5]. Упреждая возможную критику столь радикального поворота в выборе жанра, приведу доводы в его пользу, сопостав-ляя открывающиеся методологические возможности со стандартными методами и подходами.
Автоэтнография[6] - жанр парадоксальный и частный. Парадокс заложен уже в исходном посыле этого жанра и в его терминологическом облике. Центральной семой для корня этно- является компонент значения со смыслом "другой, иной", в то время как ауто, авто отсылает к себе и тождественности. Авто и этно создают поле напряжения, которое манит обещанием открытий, но одновременно и угрожают персоне, этот жанр практикующей. Забегая вперед, осмелюсь утверждать, что АЭ как метод может трактоваться как техника самоостранения. Когда же я утверждаю, что этот жанр еще и частный, я имею прежде всего в виду, что он не должен рассматриваться как универсальный ответ на проблемы, с которыми столкнулась современная рефлексивная антропология, и даже как ответ многообещающий. Это лишь одна из позиций, в горизонте которой часть этических и эпистемологических затруднений оказываются снятыми. Как относительно новая позиция, еще только начинающая функционировать во множестве давно "установленных" и авторитетных ролей и жанров, она порождает новую сеть отношений между автором и предметом, исследователем и исследуемым и по-новому освещает сложившуюся в этнографии систему ролей, уже ставшую привычной и потому малозаметной и непро-блематизируемой.
Начнем наше сопоставление возможностей АЭЖ и "стандартных" методов и жанров с проблем, с которыми сталкивается этнограф в ходе полевой работы. Именно методы полевой работы подверглись наиболее серьезной критике, хотя, следует отметить, что ее направленность часто была диаметрально противоположной. Так, например, сторонники полноты и достоверности этнографического описания настаивали на длительном, как правило, не менее года, пребывании этнографа в изучаемом сообществе. Лишь за счет наблюдения такой длительности появляется возможность быть свидетелем всех видов сезонных занятий населения, установить с ним дружеские контакты и достичь более глубокой включённости в местную жизнь и понимания её законов. В огромной литературе с критикой и апологетикой методов полевой этнографии едва ли не чаще всех остальных в связи с этическими аспектами полевой работы обсуждается тема вторжения этнографа в жизнь его "подопечных". Это вторжение, даже при самом благожелательном отношении этнографа к исследуемым всегда характеризуется градиентом власти/безвластия, который выражается даже не в разнице социальных их статусов или уровней образования, но в степени контроля за производством этнографического знания: большинство решений, что изучать, как, когда, где, как долго, с кем и т.п. принимается не представителями изучаемого сообщества, и даже не этнографом совместно с этими представителями, но только самим этнографом. АЭ снимает эти проблемы, поскольку практикующий её этнограф лишь весьма косвенно и опосредованно вторгается в жизнь других, угрожая прежде всего только себе и подвергая угрозе преимущественно лишь собственную безопасность.
Хочу заметить, что обсуждать вторжение в иную культуру и чужую жизнь в среде российских этнографов не принято. То есть, теоретически - пожалуйста, но когда задаёшь вопросы в частных разговорах с коллегами, то обнаруживаешь, что этическая сторона в обсуждении избегается, ее значение как бы принижается. Психолог бы не преминул заметить, наблюдая за собеседниками в такие моменты, что включается механизм вытеснения: сюжет для многих оказы-вается очевидно болезненным. Причем в ходе таких обсуждений тема как-то замыкается на вторжении в дом, а все прочие проблемы вторжения в иную культуру и жизнь отходят на вто-рой план. Из-за болезненности "инициации" само событие вторжения часто тривиализовывалось: мне, например, сообщали, что останавливаются у друзей, хороших знакомых, которые и сами, бывая в городе, где живет этнограф, останавливаются у него и т.п. Разница между "остановиться на квартире", "немного пожить" и "пожить, чтобы поисследовать", "пожить, чтобы написать об этом" вообще не осознается. В качестве провокации предлагаю этнографам помыслить ситуацию, в которой ваш знакомый сообщает вам, что хотел бы месяц - другой у вас пожить, для того чтобы понаблюдать как вы проводите свой досуг, расспросить о семейных делах, зафиксировать способы ведения хозяйства и формирования бюджета, понаблюдать за обы-чаями и ритуалами, рассмотреть семейный альбом, подробно расспросить вас и ваших близких о прошлом вашей семьи, чтобы написать потом об этом статью (книгу) об особенностях культуры, религии, быта у вас и вам подобных. Стоит ли говорить, что вопрошание, направленное на себя самого, на свое собственное настоящее и прошлое, значительно менее инвазивно.
Стратегия минимизации вторжения в жизнь изучаемого сообщества входит в противоречие с целью достижения полного и достоверного изображения его культуры. В АЭЖ полевая ситуация в определенном смысле непокидаема. Здесь ты лишаешься возможности ответить оппоненту, что, к сожалению, не задал такого рода вопросов своим респондентам. Находясь всегда в поле саморефлексии, ты в любой момент можешь опросить "публику" и получить интересующие тебя сведения. Присутствие поля, его "сподручность" в этом жанре - различие не только количественное, но и качественное: ни один этнограф не проводит в поле всю жизнь, и только в АЭЖ полевой опыт становится соизмеримым с длиной жизни.
Читатель здесь вправе заподозрить лукавство. Большая часть этнографов ими все же становится, а не рождается, и становление этнографа связано, помимо прочего, с постановкой особого видения, специфического умозрения, при котором событийный ряд обыденного течения жизни, во-первых, остраняется (экзотизируется в процессе сопоставления с собственной культурой), и, во-вторых, переозначивается в языке антропологических концепций. Если переозначивание (перевод на язык понятий социальной и культурной антропологии, социологии и т.д.) при рассмотрении материала собственной биографии не составляет особых проблем (нашлись бы действительно подходящие и внутренне достоверные концепции), то остранение требует особых усилий, сравнимых, разве что, с попытками человека услышать звучащую на его родном языке речь как иностранную, еще точнее, как звуковой поток незнакомого языка. Если при столкновении с незнакомой культурой этнограф вынужден бороться с материалом собственных психологических проекций[7] , то при работе с фактами собственной биографии эта зависимость обретает еще более сложный и многомерный характер: "погруженность" в материал и сковыва-ние аналитических потенций не только предрассудками своей культуры, но и собственными предрассудками требует знакомства не только с логическим анализом, но и с основами аналитической психологии. Однако в этой зависимости есть и положительные стороны: только в АЭЖ обретается возможность получения не только бесконечно "густых" описаний (в стиле Г. Райла - К. Гирца), но густых описаний от лица "аборигена". Есть и еще одно спасительное соображение: хотя обыденное сознание не отгорожено от сознания профессионального, что создает определенные препятствия (впрочем, не только для АЭЖ), в жанре АЭ персональный опыт дается не сам по себе, как в мемуарах, или автобиографии, но в "зазоре" между "персоной", этот жанр практикующей и ролью этнографа. Некоторое постулируемое расстояние меж-ду этими ролями и то обстоятельство, что они принадлежат одному человеку, сообщает АЭЖ несомненный характер иронии, ирония же, по свидетельству Дж. Клиффорда, сопутствовала современной этнографии с самого ее зарождения, что и позволило этой дисциплине стать кри-тическим зеркалом для западной культуры.[8]
Приношу читателям извинения за затянувшееся "предуведомление". Должен еще раз просить не прочитывать все приведенное как призыв отвернуться от "обычной" этнографии и обратиться лишь к экспериментальной. Я вижу для АЭЖ совсем другое применение. Зафиксированный как реальная познавательная позиция в поле возможных, как особый угол зрения на проблемы, стоящие перед этнографией, наконец, как особый план рассмотрения многочислен-ных сюжетов и теоретических преткновений этот жанр, как я надеюсь, позволит придать объемность антропологическому умозрению, перейти, если так можно выразиться, к полихромному зрению, проблематизировать ряд привычных процедур получения и обработки антрополо-гического знания, что не может не стать стимулом для их изменения, развития и совершенство-вания.
Ниже приведены два текста, написанные в жанре АЭ, главным приемом которого, его основополагающим "методом" является превращение собственного опыта и собст-венной жизни в этнографическое "поле", в материал для проверки современных кон-цепций и теорий…
Транскрибирование власти
(инициация в систему властных отношений)[*]
Это сообщение строится, главным образом, на реконструкциях моих собственных "столкновений с властями" в начале и середине 1960-х гг. (в период, когда мне было 5-10 лет) в одном из шахтерских городов на юге Западной Сибири. Выражение "столкновения с властями" я, по понятным причинам, ставлю в кавычки. Причины эти, хотя и понятны - родители, воспитатели и учителя у нас обычно не рассматриваются в качестве "властей", а конфликты с ними - не поднимаются до ранга "сопротивления властям" - тем не менее, являясь несомненным проявлением власти взрослых над детьми они заслуживают анализа и комментирования.
Отрицание серьезности детских столкновений с силой авторитета взрослых, точнее, отрицание возможности серьезных социологических и политических последствий этих столкновений, сохраняется, как мне кажется, лишь по инерции, в общественном сознании россиян и, вообще, представляет собой одну из характеристик общественного сознания социалистических а, в ряде случаев также и постсоциалистических обществ. Отчасти это связано с бытовавшей в этих обществах коллективистской парадигмой социологического мышления, автоматически превра-щавшей всякие попытки психологических истолкований индивидуальных феноменов в маргинальные. Как выражались еще полтора десятка лет назад, это являлось бы "уступкой буржуазному индивидуализму". Западные коллеги, как и новое, только начинающее профессиональную карьеру поколение антропологов наверное, будут удивлены, узнав, что работы З. Фрейда находились в библиотечных спецхранах вплоть до середины 1980-х гг. По тем же причинам отсутствовали переводы таких современных гуру психоанализа, как, например, Ж. Лакан или М. Кляйн. Сейчас психоаналитическая литература заполонила полки книжных магазинов, но психологические основы социальной динамики по-прежнему остаются за рамками официальной социологии, хотя и пробиваются к признанию в российской конфликтологии. Очевидно, в силу именно такого рода особенностей интеллектуальной истории постсоциалистических обществ, социальные теории власти в них продолжают опираться на коллективистскую парадигму: на место К. Маркса приходит М. Фуко, а не, скажем, Ж. Лакан, или Э. Миллер.
Поскольку работы последней мало известны в России, я позволю себе, прежде чем обратиться к жанру автоэтнографии, остановиться на отдельных утверждениях этого автора, тем более, что ее исследования детства связаны с анализом политического устройства общества и концепцией власти. В отличие от М. Фуко, Элис Миллер делает фокусом своего исследования власти отдельного лидера, сосредоточивая свой анализ на психодинамическом символизме власти в идеологических и политических актах. Фундаментом понимания распределения и практи-ки власти служит не совокупность исторических и социальных эпистем, хотя Миллер не умаляет их роли, а отношения между родителями и детьми в данном обществе. Власть, с ее точки зрения, не может рассматриваться в отрыве от формирования первого опыта столкновений с ней в раннем детстве. Вне раннего опыта властной социализации нельзя понять отношения между лидером и массой, а также феномен массового конформизма при осуществлении политики геноцида.
В методах анализа Э. Миллер есть, помимо психоаналитических интерпретаций, и исторический подход. На мой взгляд, современные отечественные теории коллективного действия до сих пор опираются на редукционистские модели человека, причем, в социологии, экономике и праве по преимуществу используется модель рационального выбора и рационального поведения. Действующий в них человек оказывается человеком рациональным, а его поведение ответственным и вменяемым. Аффективное поведение, эмоциональная и физиологическая стороны выступают как неизбежные "довески", как нечто прибавочное и избыточное, привлекаемое в качестве ad hoc объяснений и рационализаций. С другой стороны, в социальной психологии, конфликтологии, и, отчасти, политологии в объяснениях массового поведения Homo agens выступает в качестве Homo irrationalis (H. insanus) - человека безумного, находящегося во власти аффекта, управляемого импульсами подсознания. Российская антропология (этнология и этнография) идет, как мне представляется, не по пути синтеза этих двух моделей, способного восстановить целостность человека и социального действия, но по пути уточнения модели рацио-нального действия, реконструируя бесчисленные "локальные ratio" и подчеркивая неуниверсальность базовой модели рационального действия. Этнографы как бы говорят, что есть, мол, иные виды рациональности, и что, по крайней мере, часть поведения людей иных культур, вос-принимаемая как проявления иррационального, является рациональной и основано на взвешивании и выборе альтернатив, которые, оставаясь культуроспецифичными, не воспринимаются в качестве рационального выбора за рамками этой культуры.
Элис Миллер, если я правильно понимаю суть ее работы, как раз и делает попытку синтеза (если не на уровне теории, то на уровне методов и подходов), объединяющего психоаналитические концепции с макросоциологией и социальной историей. В своем поиске ответа на вопрос, как политика геноцида, и, в частности, холокост стали возможными в Европе, она использовала педагогические тексты XIX века для реконструкции традиций семейного воспитания в Германии, дополняя исторический анализ психоаналитическими интерпретациями[9] . Однако, с моей точки зрения, требуется синтез социально-психологических, психоаналитических и социологических концепций власти на более глубоком уровне, чем он представлен сегодня, в том числе и в работах Э.Миллер, интерпретация власти у которой имеет ощутимый "психоаналитический крен". Мне представляется, что она права, демонстрируя недостаточность имеющихся у социологов объяснений поддержки массами политики геноцида, однако ее попытки свести суть властных отношений к психотравматическому опыту раннего детства, порождающему за счет механизмов вытеснения глубоко интериоризованное чувство ненависти, проецируемое затем на поставляемых идеологами "козлов отпущения", остаются, в свою очередь, редукционистскими. Эксперименты С. Милграма, несмотря на всю их спорность с позиций современной социальной психологии, продемонстрировали, что конформное поведение в морально двусмысленных ситуациях обеспечивается не столько глубоко интериоризованными аффектами, сколько ситуативными факторами и социальными влияниями. Но и описание ситуаций и влияний в рамках детерминистских моделей человеческого поведения остаются бедными содержанием объясни-тельными схемами, соседствующими в рамках одного холистского описания с другими возможными объяснениями и иными редукциями. Слабость этих подходов я вижу не столько в изъянах научного метода, сколько в фундаментальных ограничениях человеческого познания Другого. В этом смысле шагом к нередукционистским описаниям власти мог бы стать не только предложенное К. Гирцем густое описание, но и жанр автоэтнографии, где Другой - это ты сам.
* * *
Из всего периода собственного детства я выбираю несколько травматических для меня (и потому, видимо, запомнившихся) случаев, которые, как выяснилось (что было для меня самого неожиданностью), продолжают оказывать некоторое влияние на мое восприятие людей и сегодня. Попробуйте вспомнить самое первое свое столкновение с властью. С любой властью. Я задал этот вопрос своим студентам и обнаружил тот же самый обескураживающий результат, что и при обращении к собственной памяти. Самое первое ускользает. Память не хранит ни первого знакомства с насилием, ни первого опыта сопротивления. Психоаналитики услужливо подсказывают нам - вытеснение, подавление. Мы можем не верить Зигмунду Фрейду и его последователям, но тогда нам следует отбросить и все рассуждения социологов и этнологов о габитусе: если наш взрослый опыт не несет следов нашей же собственной социализации и вхождения в поле власти, то сами понятия социализации и габитуса как ее продукта становятся избыточными.
"Человек обычно не осознает то, что является продолжением его детства"[10] . Какими свидетельствами мы располагаем, чтобы согласиться с этим утверждением, либо опровергнуть его? Какими вообще свидетельствами мы можем располагать, если речь идет о том, что по опреде-лению недоступно нашему сознанию? Смутные воспоминания, сны, поведенческие автоматиз-мы, если судить о них вне авторитетных теоретических объяснений - не являются свидетельствами и свидетелями. Чтобы их таковыми сделать, нужна определенная культура восприятия и интерпретации, например, европейская (и, вслед за ней современная северо-американская) культура, пронизанная психоаналитическим жаргоном. Советская культура никогда не входила в этот мир европейской чувствительности с его градуированием феноменов бессознательного. Следовательно, наши нынешние потуги схватывания и понимания особенностей этой культуры и стоящих за ней стилей жизни и отношений властвования с помощью готовых и заимствованных категоризаций воспроизводят лишь еще одну сторону концептуального захвата, еще одну ипостась аккультурации, еще одну демонстрацию власти интерпретации, еще одно насилие Запада по отношению к стремительно уходящим в прошлое мирам Иного, словом, очередной эпизод в череде побед концептуального империализма. Советская эпоха - уходящая натура, мы уже сейчас начинаем забывать собственный опыт ее проживания, то и дело путая его с объяснениями этого опыта, приходящими извне. Отторжение собственных, так сказать, доморощенных объяснений и неверие в них, есть, между прочим, также одно из проявлений власти интер-претации и сложившейся иерархии референтных сообществ в современной мировой науке.
Вернемся, однако, к опыту первых столкновений с властью. Из пятидесяти студентов, которым я предложил описать этот опыт, ни один не смог вспомнить ничего из ясельного периода - самого раннего столкновения с властью чужих незнакомых людей. Замечу, что студентам было по 17-18 лет, и что эпизоды из "послеясельного" детсадовского детства помнили все, кто ходил в детский сад. Не стану спешить с объяснениями. Мой собственный ясельный опыт был, насколько я помню, весьма травматическим, но я ходил в ясли в суровые 1950-е, а мои студенты - в относительно благополучные 1980-е. Дело, стало быть, не во времени и, быть может, даже не в травмах и подавлении травматического опыта, хотя теорию З. Фрейда именно в этой ее части трудно фальсифицировать. Как уцелевший свидетель истории трансформаций советской сис-темы воспитания и образования, который попал в нее нескольких месяцев от роду и "выпал" из нее лишь в середине 1990-х гг. после окончания докторантуры, могу напомнить, что в начале 1950-х гг. послеродовой декретный отпуск длился всего два месяца, а дальше в семьях, где не было старшего поколения, либо где бабушки и дедушки сами еще работали, дети попадали в объятия этой самой системы. От того периода жизни у меня сохранилась всего одна фотогра-фия, где я в костюме зайчика (очевидно, коллектив нашей ясельной группы праздновал встречу Нового года), сижу с поникшими ушами среди "сокамерников", лица и мимика которых нахо-дится в шокирующем несоответствии с пропагандой советской версии "счастливого детства", и застенчиво смотрю на фотографа (я жутко стеснялся фотографироваться, поскольку полагал, что сам акт фотографирования превращает тебя в героя, человека незаурядного, выделенного из толпы, при этом наличие толпы рядом и в кадре нимало не меняло этой уверенности). Не думаю, что угрюмые нянечки церемонились с этой оравой ползающих и во всех смыслах нетвердо стоящих на ногах чад, хотя никаких подробностей "истязательств" память не сохранила. Помню только, что угрюмость лиц персонала повергала меня в рев, стоило мне переступить порог этого заведения. Уже много лет спустя, читая Диккенса, я отчетливо вспомнил удушливую атмосферу моего первого "учебного заведения". Сопротивляться этой атмосфере активно в том возрасте я не мог, но мой организм реагировал на принуждение с безукоризненной непреложностью, поэтому часть "срока" я "отмотал" в больницах. К счастью для меня, связь между принуждением и болезнью не успела заматереть до рефлекса - ясельный возраст кончился, а в детском саду я изобрел простейшие техники избегания власти и больше уже никогда в больницу не попадал.
Я не знаю, какое отношение имеет ландшафт к миру властвования с его распоряжениями, правилами, подчинением, сопротивлением, уклонением, борьбой. Может быть и не имеет никакого. Но почему-то мне кажется необходимым дать вам представление о том, в каких декорациях разыгрывалась эта серьезная игра, которую впоследствии я опознал как власть. Универсализм теоретических построений вытесняет подробности места и времени оперирования власти, оставляя скелет, схему отношений и диспозиций, бледную копию пульсирующего страстями оригинала. Встающий перед моим мысленным взором ландшафт определенно играет важную роль в моем нынешнем сопротивлении ставшему дискурсу теоретической редукции. Вообще, должен заметить, что практически все известные мне концептуализации и реализованные на их основе представления о власти я воспринимаю как редукционистские, причем они не просто сводят мой опыт к одной из переживаемых сторон, но и искажают его. Я не стану утверждать, что искажения существенны, поскольку затрудняюсь разделить свой опыт на существенное и второстепенное, имманентное и контингентное. Просто известные мне концептуализации власти оказываются во многом "не про это". Для приближения к тому, что я испытывал в моих "инициациях" в отношения власти и подчинения, требуется не характеристика наличных дис-курсов или параметров символического капитала элит, но интимные подробности тел (например, выражения лиц и позы детей на упомянутой выше фотографии) и вмещающих их ландшафтов, своего рода культурная "геоморфология" и стратификационная проксемика - те поля значений, которые определяли и направляли поток моего опыты, если и не столь жестко и не-посредственно, как прямое принуждение, то столь же непреложно. То, что представлено ниже, следовательно, остается попыткой остаться на уровне топологического описания власти, в котором ландшафт и вписанные в него тела оказываются важнее телесных практик, раскрывае-мых феноменологическим анализом.
Но вот проблема. С какой бы лазейки, калитки, ворот, провала в стене, зияния я не попытался бы ввести вас в тот, увы, уже малодоступный и для меня самого мир, все это, уже только в силу линейности повествования и нелинейности нашего восприятия мира, неизбежно становится редукцией. Я вынужден "сплющивать" и "вытягивать" мой опыт в нить, подобную нити Ариадны, раскручивающей перипетии бегства от смерти в лабиринте. Если бы я был чревове-щателем, я смог бы, по меньшей мере, воспроизвести пару измерений этого текучего много-мерного мира опыта, смог бы столкнуть их, высечь искру, или вызвать эхо. Смог бы, наверное, рифмовать запах и прикосновение, звук и тянущую пустоту внутри, жест и эмоцию. Принуждаемой письмом и линейностью нарратива к одномерности, я оказываюсь способным лишь на произвольный выбор какого-то одного измерения из всей гаммы (палитры?, букета?), временно замещающей тотальность опыта.
Воспользуемся метафорой перемещения во времени. Большинство фантастов и мистиков согласятся со мной, что путешествуя во времени, мы летим. Это значительно сокращает круг мыслимых способов проникновения в миры Иного. Не столько перемещаясь сам, сколько перемещая вас в мир моего детства, я заставляю вас впервые и во-первых увидеть этот мир, и увидеть его, для начала, с высоты птичьего полета. Что же откроется вашему взгляду? Если вы летите с севера, а именно так следует подлетать к этому миру, обрамленному Салаирским кряжем на западе, отроги которого редко достигали 500-метровой отметки, долиной Томи - на востоке, и где-то вдали, на пределе видения с высоты вашего полета, замыкающими горизонт хребтами Кузнецкого Алатау, пики которого гордо именуются среднегорьем. Именно с севера приникали сюда все посланцы иных миров, прилетая на самолетах, приезжая на поездах. Туда уходило большинство дорог, да и главная река со всеми ее многочисленными притоками несла свои воды на север. Мир моего детства, стало быть, был ориентирован как компасная стрелка, с севера - на юг. Подчиняясь этой нерукотворной топографии, которую не смогли коренным об-разом изменить процарапанные на земной поверхности провалы угольных разрезов и котлова-нов и насыпанные людьми кочки шахтных терриконов, городок, вмещавший тогда около трех-сот тысяч обитателей, то есть население одного спального района Москвы, рассыпался чередой поселков, вытянувшихся вдоль основных ландшафтных осей - гряд холмов, речных долин, маршрутов древних и новых кочевий. Даже находящийся в двухстах пятидесяти километрах к северу широтный Транссиб, в своей тщетной попытке опоясать страну железным ремнем, лопался и отпочковывался длинным аппендиксом, уходящим на юг и иссякавшим в тридцати вер-стах южнее этого городка. Главная его улица, вытянувшаяся параллельно железнодорожному аппендиксу и ориентированная, стало быть, также с севера на юг, носила тогда, в конце 1950-х - начале 1960-х гг., отнюдь не имя вождя, памятник которому с его вокзальной площади про-рочески указывал на запад, но именовалась просто, и, с точки зрения архитектурного диагноза, поставленного ее обитателями - точно: Фасадной. В начале 1970-х она почему-то была пере-именована в проспект Шахтеров, шаг, продиктованный откуда-то из высших эшелонов власти, небожителями, обладающими правом именовать вещи. Это был конец одной эпохи, связывае-мой с чудачествами Хрущева, и начало другой --маразматически вытеснявшей собственное прошлое эпохи Брежнева. Точный смысл переименования я не берусь реконструировать; этот жест власти так и остался неоцененным и неосвоенным краеведами; он символизировал, наверное, смену стилей и практик управления: власть брезгливо отворачивалась от экстатики хозяйственных экспериментов с кукурузой и обращала свой взор в горнии выси идеологии и международной политики. Правильность имен приобретала больший вес, чем разумность действий.
 Фасадная, между тем, было названием чрезвычайно удачным не только в смысле архитектурного чутья (все дома с тем, что без натяжки можно было бы именовать фасадами, действительно сосредоточивались на ней), но и с точки зрения ландшафтной, или, если угодно, физиогномической - это было истинное лицо города, здесь находились все его достопримечательности - главные магазины, банк, музей, стадион, и, наконец - краса и гордость, венец городской архитектуры, чей творец, по слухам, был по завершению строительства репрессирован за чрезмерные траты и размах, с которым он оформил театр и театральную площадь, поместив ее в самом центре этой самой длинной улицы города. Удачно расположенный на западном склоне холма, возносящийся над небольшой площадью и улицей белой колоннадой, увенчанной классической фронтоном и обрамленный двумя одинаковыми зданиями со шпилями, он смотрел на облицованную гранитом трибуну, с которой отцы города во время праздничных демонстраций выкрикивали свои здравицы и призывы. Трибуна была фланкирована двумя рядами пятиметро-вых копий ограды, с блестящими на солнце наконечниками, за которой был крутой обрыв, переполненной шумящей на ветру тополиной листвой, а где-то на дне обрыва залегала железная дорога, и еще дальше шумела в своих берегах из черной угольной пыли мутная речка Абушка, в которой пацаны ловили черных пескарей-шахтериков. На картах эта речушка гордо именовалась Абой, то ли в честь обитавшего здесь некогда народа - абинцев, то ли в честь медведей, которых шорцы уважительно называли "аба", и один из родов которых по сию пору носит это имя. Вторжение имперских амбиций в местную топографию и топонимику, видимо, все же имеет свои границы, и специалисты не раз, не без некоторого удивления, отмечали феномен "исторической устойчивости гидронимов". Власть именования в России нередко пасует перед ландшафтными и телесными стихиями. Именно поэтому мне интересней отслеживать ее топологические конфигурации, ее, так сказать, простирание и границы, ее интимное родство с res extensa, возникающее благодаря российской традиции "воплощать" и "овеществлять" всякое понятие до ощутительной плотности, нежели углубляться в феноменологию внутренних переживаний, которая описана и проанализирована куда как подробней российскими писателями и западными обществоведами... Фасадная, между тем, было названием чрезвычайно удачным не только в смысле архитектурного чутья (все дома с тем, что без натяжки можно было бы именовать фасадами, действительно сосредоточивались на ней), но и с точки зрения ландшафтной, или, если угодно, физиогномической - это было истинное лицо города, здесь находились все его достопримечательности - главные магазины, банк, музей, стадион, и, наконец - краса и гордость, венец городской архитектуры, чей творец, по слухам, был по завершению строительства репрессирован за чрезмерные траты и размах, с которым он оформил театр и театральную площадь, поместив ее в самом центре этой самой длинной улицы города. Удачно расположенный на западном склоне холма, возносящийся над небольшой площадью и улицей белой колоннадой, увенчанной классической фронтоном и обрамленный двумя одинаковыми зданиями со шпилями, он смотрел на облицованную гранитом трибуну, с которой отцы города во время праздничных демонстраций выкрикивали свои здравицы и призывы. Трибуна была фланкирована двумя рядами пятиметро-вых копий ограды, с блестящими на солнце наконечниками, за которой был крутой обрыв, переполненной шумящей на ветру тополиной листвой, а где-то на дне обрыва залегала железная дорога, и еще дальше шумела в своих берегах из черной угольной пыли мутная речка Абушка, в которой пацаны ловили черных пескарей-шахтериков. На картах эта речушка гордо именовалась Абой, то ли в честь обитавшего здесь некогда народа - абинцев, то ли в честь медведей, которых шорцы уважительно называли "аба", и один из родов которых по сию пору носит это имя. Вторжение имперских амбиций в местную топографию и топонимику, видимо, все же имеет свои границы, и специалисты не раз, не без некоторого удивления, отмечали феномен "исторической устойчивости гидронимов". Власть именования в России нередко пасует перед ландшафтными и телесными стихиями. Именно поэтому мне интересней отслеживать ее топологические конфигурации, ее, так сказать, простирание и границы, ее интимное родство с res extensa, возникающее благодаря российской традиции "воплощать" и "овеществлять" всякое понятие до ощутительной плотности, нежели углубляться в феноменологию внутренних переживаний, которая описана и проанализирована куда как подробней российскими писателями и западными обществоведами...
Однако вернемся на улицу Фасадную и попытаемся понять, куда же смотрит это "лицо города". Если вы оторвете свой взгляд от мутных вод "медвежьей речки", на черных и замусоренных берегах которой я вас покинул, отправляясь в очередное отступление, и поднимите его горе, вы узрите коричнево-рыжий склон горы, возносящейся над центром города и как бы замыкающей горизонт на востоке. Повернитесь теперь спиной к колоннаде театра, вон там, на самом верху горы, среди осыпей горельника (так называли шахтеры спекшийся щебень), вдруг обнаруживается профиль огромной лысой головы, выложенный большими, видимо, побелен-ными известкой камнями. Если у кого-то и возникало сомнение относительно портретного сходства, то оно разом рассеивалось лаконичной, точнее, лапидарной надписью ниже профиля, выполненной в той же технике инкрустации белеными камнями. Подпись гласила - "ЛЕНИН". Тут обнаруживалось, что Фасадная, будучи лицом города и практически не имея четной стороны, всеми своими фасадами, повседневно и истово всматривалась поверх верхушек тополей в другое лицо, вспыхивающее золотом и пурпуром на закатном солнце - в лицо вождя мирового пролетариата.
Если бы вдруг кому-нибудь пришло в голову проследить направление взгляда вождя и провести мыслимый пунктир от предполагаемого месторасположения глаз Ильича до той точки на местности, в которую этот невидимый взгляд упирался, он увидел бы спину четырех-пятилетнего мальчишки, стоящего у подножия небольшого холмика на заднем дворе какого-то двухэтажного здания и с упоением что-то рассматривающего. Не поручусь, что взгляд вождя сверлил исключительно мою спину. Гора, как я уже говорил, была высокой, и с нее открывался прекрасный обзор. Но я и не подозревал, что ускользая из-под контроля детсадовских воспитателей и нянь, ибо это был задний двор моего детсада, куда я попал, пройдя огонь и воду крещения ясельным воспитанием, я оказываюсь под бдительным оком вождя. Ускользание это, вероятно, может пониматься и как бегство или сопротивление, как одна из осваиваемых ранее других техник и тактик противодействия тотальности надзора - этой, быть может самой древней антропотехники власти, но для меня тогда это не было сознательной практикой. Просто на заднем дворе, у казавшегося мне тогда большим холмика детсадовского погреба, поросшего лебедой и крапивой, лопухами и клевером, известным мне тогда как "кашка", подорожником, полынью и одуванчиками, мне было интересней, чем на вытоптанных игровых площадках. По стеблям трав ползали божьи коровки, легко соглашавшиеся на мою просьбу "улететь на небо" и разнообразные жуки, чьи надкрылья вспыхивали на солнце всеми цветами радуги.
Вождь из своего надмирного далека рассматривал мою спину, а я тем временем был занят рассматриванием одуванчика. Одуванчик вообще играл в моем мире особую роль, которую можно сравнить разве лишь с отношением к племенному тотему. Дело было не только в том, что из его терпко-горьких полых стеблей (как и из недозревших стручков акации) мы делали гуделки, ошеломляя все живое скоморошечьей какофонией, но и в таинстве превращения сол-нечного цветка в пушистую шапочку "парашютиков". Его чары стали еще сильней, когда к од-ному из утренников меня заставили выучить стихотворение про одуванчик, из которого память удержала только одну строфу:
Он стоит на самой опушке
он стоит на самой жаре,
и над ним кукуют кукушки,
соловьи поют на заре.
Читать нас учили "с выражением", что в данном конкретном случае означало наличие особой интонации и дополнительного ударения на слове "самой", сопровождаемого еще и выразительной жестикуляцией. Этот брошенный одуванчиком вызов силам природы, его отважное и отчаянное самостояние "на самой жаре" производили на меня неизгладимое впечатление, окончательно упразднявшее его различия с тотемом. Итак, я разглядывал одуванчик, точнее тонкую геометрию его шапочки, и сам был разглядываем, хотя и не чувствовал этого, из подернутой пылью дали окаменевшим в своем неусыпном дозоре Ильичом. Разглядеть подробности ленин-ского прищура можно было бы, вздумай я подняться на холм детсадовского погреба чуть повыше и приблизиться к самой его двери, окованной железом и всегда закрытой. Однако я никогда не приближался к этой двери близко и тому были свои причины. Видимо оттого, что я никогда не заставал дверь открытой, и еще оттого, что сам холм соседствовал с глухим забором этого детосодержалища, за которым (и это открывалось мне с самой вершины холмика) раскрывался дикий пейзаж обвалов - так назывались у нас провалившиеся выработки отработанных шахтных полей, буйно заросшие разнотравьем, чередуемым щебнем и глиной обрывов и оврагов, заполненных дождевыми и подземными водами. Все это зазаборное буйство как-то оказывалось для меня связанным с таинственной дверью погреба, поскольку я был абсолютно уверен, что дверь эта открывается только золотым ключиком и за ней находится вся обширная география волшебной страны, с ее могучими соснами, к смоле которых прилипла борода Карабаса (и в память об этом цвет ее именовался смоляно-черным), с болотами, в которых обитала Тортилла и ловил пиявок Дуримар, с полем чудес, на котором Буратино зарыл свои золотые. Зазаборные обвалы и дверь погреба сливались в единое, заказанное для входа, волшебное пространство, у которого было и более страшное ночное измерение. Там, в смоляно-черной задверной глуби погреба мне мнилось и обиталище жуткой бабы-Яги, сидящей на самом дне и простирающей свои длинные костлявые руки со страшными когтями, чтобы схватить меня и съесть. Каннибальский мотив пришел, очевидно, из сказок и дурацких игр взрослых, прикусывающих младенческую пятку или бочок с шутливой угрозой "Вот я тебя съем!"
Все эти фантазии имели разные продолжения и эпилоги, порой отсроченные на много лет. Фантазия с бабой-Ягой, например, воплотилась весьма скоро, в том же детском саду, когда я, в своем извечном стремлении ухода из дисциплинирующих пространств взрослого произвола (спать днем, есть отвратительную манную кашу, засыпать непременно на правом боку, склады-вая ручки под щечку, не грызть прохладный цинк раскладушки, гулять на площадке собствен-ной группы и т.п.) решился на побег домой. Дом мой находился на той же улице, на расстоянии полутора недлинных автобусных остановок, правда, на другой стороне дороге (перебегать ко-торую без взрослого сопровождения также запрещалось). Вдоль всей улицы, которая шла сначала под горку, а затем, в районе клуба железнодорожников имени товарища Кирова начинала идти вверх, были устроены деревянные тротуары со ступеньками. Выбравшись за калитку детсада я очень скоро обнаружил, что в погоню за мной послана огромная нянька, ступни и ладони которой казались великанскими. Я помчался что было сил вниз по тротуару, с оглушительным грохотом топая жесткими подошвами сандалий. Казалось, что я лечу, и мои ноги почти касаются лба и затылка. Не помню, подвели ли меня скользкие сандалии, или бегал я еще не так быстро, как научился позже, но очень скоро, практически через мгновение, я услышал сзади грохот настигающей погони, и страшная рука схватила меня за плечо. Меня, насколько я помню, никак не наказали, но жуть погони и, главное, хватающей меня сзади громадной руки произвели такой эффект, что много месяцев, а, может быть, и лет после этого я боялся того чувства беспомощности и паралича, которые настигают и хватают тебя сзади. Мне стали сниться кошмары, в которых я пытался убежать от когтистых рук бабы-Яги, но она всякий раз настигала меня, хватала, и я с криком просыпался. Из-за ночных кошмаров и неурочных пробуждений во все оставшееся дошкольное и часть школьного детства я боялся темноты и умолял родителей оставлять дверь моей комнаты открытой, чтобы в нее проникал свет из их спальни. По этой же причине я опасался подвалов и погребов. По сию пору, когда неприятные обстоятельства принуждают меня делать что-то вопреки моей воли и желанию, я начинаю ощущать боль в правом плече, как будто рука бабы-Яги настигла меня, схватила и тащит в жуткое никуда. Власть оказалось вписанной в мое тело.
Много лет спустя, будучи в экспедиции в одном из сибирских сел, где мне удалось обнаружить несколько десятков вепсов, при разговоре с одним из них я поймал себя на особом чувст-ве узнавания, когда мой респондент рассказывал мне свою версию легенды о чуди, ушедшей под землю. "Дед мой показывал мне на огороде черепа (речь шла о его детстве, проведенном на юго-востоке Ленинградской области). С кем-то мы воевали, то ли татары на нас шли, то ли кто еще… Наш народ испугался, вырыли погреб, а потом столбы подбили, и все там полегли, под землю ушли…" Я, как ветеран и инвалид войны с хтоническими чудищами, услышав эту исто-рию, содрогнулся.
Более светлая, "буратинская" часть моих видений также имела продолжение, но, скорее, юмористическое. У всех детей детсадовского возраста наверняка были свои представления о школе и учебе, составленные из обрывков сведений, поступавших от старших братьев и сестер, знакомых, родителей, книг и кинофильмов. В ту дотелевизионную эпоху книжные сведения (а за отсутствием братьев и сестер они были для меня определяющими, поскольку сам я начал читать лет в пять, а до этого я заставлял это делать для меня родителей) были очень важным каналом получения всевозможной информации. Мой информатор и непререкаемый авторитет относительно критериев школьной успеваемости был, разумеется, Буратино. С его помощью я твердо усвоил, что главное в школьном деле - не ставить клякс, а главный предмет - чистописание. Это убеждение стоило мне потом многих мук. Писать тогда полагалось перьевыми дере-вянными ручками, старательно и ежеминутно обмакиваемыми в чернильницы-непроливайки, которые мы должны были таскать с собой в специально сшитых для них мешочках. Не ставить клякс при такой технике письма было совсем не простой задачей. Перо забивалось сором со дна чернильницы и бумажными волокнами, которые набухали от чернил и оставляли безобразные пятна на тетрадных страницах. Нужно было неустанно и бдительно следить за его чистотой, для чего служили сшитые домашними тряпичные, или покупные кожаные перочистки. Плохое перо захватывало при обмакивании слишком много чернил, и нужно было стряхивать их избыток обратно в чернильницу. Проделать это аккуратно не всегда получалось - капли летели на стол и тетрадь, или мазали пальцы, а уже с них отпечатывались на все той же многострадальной странице. Пишущую руку необходимо было все время держать на промокашке, иначе ты рисковал размазать уже написанные строки крючочков и палочек. По интенсивности концентрации внимания, о чем свидетельствовал и высунутый язык, которому тоже доставалась своя порция чернил - анилиновый их вкус был ужасен - выполнение домашнего задания по чистописанию превращалось в своеобразную йогу и являлось, с моей точки зрения, самым эффективным средством и техникой школения[11] .
Всякая помарка в усвоенной мной идеологии мальвинизма-буратинизма была преступлением, я приходил в ужас и отчаяние, ассоциируя гнев Мальвины, обнаружившей буратинины кляксы, с гневом моей учительницы. Выход был один - замена страницы, которую сначала по моей просьбе осуществляла мама, а потом стал неуклюже проделывать и я сам. Иногда это было просто - металлические тетрадные скрепы разжимались ножом или ножницами и испорчен-ный лист заменялся свежим. Но попадались и сшитые нитками тетради, и приходилось после замены листа сшивать их заново. Форматы заимствованных страниц из других тетрадей не всегда совпадали с остальными страницами, и тогда нужно было либо аккуратно обрезать излишки у вставляемого листа, либо, что было значительно труднее - у всех остальных листов тетради. Иногда испорченную страницу заменить было невозможно - на ее обратной стороне было уже проверенное учительницей задание, в этом случае как последнее средство в ход шли бритвенное лезвие и ластик. Переписывание набело испорченных страниц с его новым риском поставить кляксу не раз погружало меня в агонию отчаяния, но ни разу я не усомнился в перфекцио-нистских воззрениях Мальвины…
Моя первая учительница действительно одобряла чистоту тетрадей и снижала оценки "за грязь" непосвященным в чистописательное священнодействие. Впрочем, техника замены листов быстро распространилась и даже позднее стала использоваться отдельными смельчаками для сокрытия двоек от родителей, что не могло быть спрятано от бдительного учета и контроля Веры Николаевны, так звали учительницу, и приводило к серьезным последствиям. Мои навы-ки уберегали меня от подобных конфронтаций, но доставляли неприятности иного рода. С самого начала школы наша учительница не без оснований заподозрив в нас адептов мистических культов и враждебных идеологий, принялась насаждать единственно верное учение. При сохранении исходного завета - не ставить клякс, я узнавал дополнительные табу - не разбивать графинов, а если разбил - сразу сознаваться. Кроме того, моя подготовка в октябрята состояла в шефстве над двоечниками, которых я должен был учить писать крючочки. Я воспринимал это как суровую и незаслуженную епитимью. Это ничем с моей стороны не спровоцированное наложение поста в итоге заставило меня поставить под сомнение непререкаемый авторитет учительницы. После четырех уроков, когда голова уже начинала болеть, а затем и кружиться от голода, я сидел в душном классе за одной партой с каким-нибудь оболтусом и демонстрировал ему свое каллиграфическое искусство. Не проникший в сердцевину великого учения чистого Писания неофит, с откровенным нежеланием и небрежением вместо мировой линии гармонии вычерчивал мерзкую загогулину, и все начиналось сначала. Позднее к занятиям с отстающими были добавлены иные духовные подвиги - бесконечные классные часы, на которых мы изучали биографии пионеров-героев. Поскольку вникновение в агиографию юных борцов проходила все в той же полуобморочной обстановке подступающего голода и духоты, ее результатом стала разделенная (хотя и скрываемая) нелюбовь ко всем пионерам-героям, и весь мартиролог был немедленно вытеснен в небытие, стоило нам перейти в четвертый класс, в котором власть нашей первой учительницы закончилась.
Вспоминаю свою детсадовскую иллюзию, связанную с переживанием зависимости от прихотей мира взрослых с их расписаниями, жизнью по часам, нудными обязанностями и т.д.: я наивно полагал, что, оказавшись в школе, я сам смогу распоряжаться собой и своим временем. Те же иллюзии я питал, покидая школу, относительно института. И только аспирантура, и - еще в большей мере докторантура, отчасти опровергли начинавшее зреть во мне убеждение, что зависимости, скрепы и узы - как вино, маразм и уксус - со временем только крепчают. Впрочем, в отличие от начальной школы, где меня вместе с другими жертвами неустанно школила моя первая учительница, остальные ступени школярства я преодолел сравнительно безболезненно. Я говорю "сравнительно" потому, что мне известны и иные "педагогические укрощения" если не чудовищные, то все же впечатляющие. Описанием одного из них, в качестве еще одной попытки фальсификации принципа теоретической редукции, или еще одной демонстрации несводимости мира человеческого опыта к одномерным объяснениям, я и хочу заключить мое повествование о травматической, трансформирующей и судьбоносной силе власти в отно-шениях между сильными и слабыми мира сего. Здесь я вынужден покинуть столь любезный мне жанр автоэтнографии, и привести один из поразивший меня рассказов моих студентов.
Время действия - середина 1990-х гг. Место действия - школа российского постпредства при ООН в Нью-Йорке. Я не хочу нарушать анонимность действующих персонажей этой истории. К счастью для меня, они уже покинули место развития событий. Далее следует изложение событий, максимально приближенное к оригиналу, я позволил себе лишь небольшие сокращения, стремясь сохранить стиль и манеру повествования моего респондента.
"… Математику у меня вела такая учительница, которую я не пожелал бы даже своим врагам. Это была дама аристократического типа, лет пятидесяти пяти. Она была женой высокопоставленного украинского дипломата и весь ее вид просто кричал о том, что она выше по своему положению, чем все остальные в школе. Ее внешний облик - высокий рост, пышнотелость, ношение рыжего парика и толстого слоя пудры - заставляли меня воспринимать ее как смесь дореволюционной "особы, приближенной к императору" и жены партийного босса советских времен. Она носила старомодные платья с меховыми воротниками и туфли на огромных шпильках; на ее пальцах красовались перстни с драгоценными камнями невероятных размеров, на шее висели роскошнейшие ожерелья, а на запястьях - не менее дорогие браслеты. Ее властность проявлялась во всем - от манеры говорить, до походки. Что это была за походка! Только по стуку каблуков любой догадывался о ее приближении. Мурашки бежали по коже, когда мы, сидя в классе, молча слушали приближение ее шагов. Я не знаю никого, кто мог бы так царственно выдерживать ритм шага. Размеренный, но не от усталости, а, как бы несущий угрозу стук ее каблуков был в нашем представлении похож на поступь приближающейся смерти. Она заходила в класс, где мы все уже стояли, молча вытянувшись по стойке "смирно". Просто невозможно было разговаривать, и еще хуже - сидеть, в то время, как она входила. Она окидывала нас взглядом, полным ненависти, готовая испепелить любого, если потребуется. Под этим взглядом я начинал чувствовать себя виновным во всех грехах, мыслимых и немыслимых, и хо-тел провалиться сквозь землю, выпрыгнуть в окно, сделать что угодно - лишь бы покинуть эту комнату. Трудно представить себе радость счастливца, посланного ею принести мел, или намочить тряпку, ведь это давало пусть минутную, но передышку от давившей и гнетущей атмосферы ее занятий. Иногда она входила в класс улыбаясь, но ее улыбка не дарила надежды, она по-давляла и заставляла еще больше бояться, она вообще не умела улыбаться по-доброму.
На уроках она кричала на нас, но мы не так боялись ее крика, как одной фразы, произносимой ей с тянущей интонацией плеера с севшей батарейкой: "Ну ты, мужик, попа-а-а-л! Теперь ты будешь проходить у меня школу молодого бойца!" Это означало конец относительно ней-трального обращения с учеником, и с этого момента его жизнь превращалась в ад. Она могла и ударить, и заорать так, что уши потом были заложены до конца урока, и заполнить все свободные клетки журнала напротив его фамилии "колами". И все это без тени жалости, или угрызения совести. А потом она приходила в другой класс (она вела математику в старших классах и пятом) и с удовольствием рассказывала как поставила только что одному парню из нашего класса 24 единицы. Она свободно собирала с нас дань - яблоки, бутерброды, воду, чипсы, все, что родители давали нам с собой на обеды; забирала все, что видела. И если нам, старшим, уда-валось с огромным напряжением дожить до конца урока, то у пятиклашек часто случались срывы: дети плакали, отказывались идти на урок, а некоторые даже писались от страха.
Она желала властвовать и обладала властью. У этой женщины была поразительная харизма, как у Сталина. Сама она ничего и никого не боялась, но ее боялись все - от учеников до директора школы. Весь учительский состав вставал, когда она входила в учительскую. С учителями она общалась даже при учениках вопиюще фамильярно. Однако люди, сумевшие оказать ей упорное сопротивление, завоевывали ее уважение. Воспринимала она только силу, а неубедительные попытки протеста жестоко подавляла. В нашем классе она уважала только одного парня, который, учась у нее когда-то в шестом классе, дал ей отпор: на подзатыльник он ответил сильным ударом в живот. С тех пор она никогда не кричала на него, не отнимала у него бутер-бродов, и общалась с ним почти на равных. Единственная учительница, которую она уважала, добилась этого похожим способом, выкрикнув ей в лицо все, что о ней думала. Трудно сказать как она добилась этой практически ничем не ограниченной, диктаторской власти в школе. Мо-жет быть это получилось у нее потому, что большинство учителей приезжало преподавать на два года, а она, как жена дипломата жила там уже пятнадцать лет, и могла не бояться выгово-ров директора, или завуча, зная, что ее всегда "отмажут". А может быть она достигла всего бла-годаря своей харизме.
Вот с таким человеком у меня и произошел конфликт. Я приехал в Нью-Йорк в первой четверти десятого класса и поначалу почти ни с кем не общался, и потому не был никем предупрежден о ее характере. На уроки математики я приходил с полной уверенностью в себе, я знал ее лучше других предметов и понимал ее лучше остальных; вообще, это был мой любимый предмет. И первые три недели действительно все шло хорошо. Она общалась со мной снисходительно, и даже помогала, если я чего-нибудь не понимал. А я ходил на ее уроки спокойно, хотя и заметил, как она обращается с другими. А потом произошел случай, который изменил ее отношение ко мне и перевернул мою жизнь. Она объясняла новую тему, а потом стала спрашивать по пройденному материалу; кто-то из ребят не смог решить у доски уравнения, она, как обычно, наорала на него и посадила на место. Затем подошла к доске и, записав собственноручно решение, спросила, все ли согласны. И тут черт меня дернул поспорить. Я увидел, что она неправильно разложила формулу, поднял руку и сообщил ей об этом. Весь класс с ужасом и сочувствием обернулся ко мне, понимая, что я веду себя как самоубийца. Она посмотрела на меня иным взглядом, чем смотрела прежде - взглядом, которого все боялись и которого с тех пор стал бояться и я. Сейчас я понимаю, что именно в тот момент она подчинила меня и взяла надо мной неограниченную власть.
"Чт-о-о-о? К доске-е-е!" - сказала она голосом плеера с севшими батарейками. "Ну ты, му-жик, попа-а-а-л!" И она пообещала мне школу молодого бойца. Я вышел к доске и написал правильное решение. "Непра-а-а-вильно! Сядь! - она перечеркнула все и без всяких объяснений влепила мне двойку. С тех пор она стала обращаться со мной, как и со всеми остальными, и я тоже стал ее бояться. И все же часть прежней симпатии сохранялась из-за того, что я по-прежнему знал математику лучше остальных. Все продолжалось до декабря, а с января я перешел в американскую школу, чтобы выучить английский и был вынужден учиться по программе русской школы экстерном. Я приходил по вечерам и сдавал необходимые зачеты, а готовился к ним дома. Математичка расценила мой уход как предательство. "Ты же у меня перл был, перл! И променять математику на английский! Куда ты с ним, с этим английским!" Ее отношение ко мне стало еще хуже, и я стал ее бояться еще больше. На вечерних занятиях она орала на меня, или разговаривала со мной голосом плеера с севшими батарейками. Я возненавидел ее, а вместе с нею и математику, которую прежде так любил. Я перестал думать над задачами, брать в руки учебник, приходить к ней на занятия. На три месяца я вообще забыл слово "математика". В итоге на годовой контрольной я неправильно оформил правильно решенные задания, и она хладнокровно поставила мне "трояк", зная, что тройка означает для меня потерю надежды на медаль. Я знал, что на будущий год мне предстоим вернуться в эту школу и с ужасом представ-лял себе, что со мной будет. К счастью для меня, все обошлось. Она уже лет пять обещала уе-хать, и никто уже в это не верил. Однако летом она действительно уехала, и вся школа смогла вздохнуть с облегчением. Моя радость была безграничной. Мне разрешили пересдать матема-тику и в итоге я получил серебряную медаль. но любовь к математике была отбита у меня на-всегда. Именно поэтому я учусь в этом гуманитарном вузе, подальше от математики и таких учителей. Я стал более осторожным в словах; прежде чем открывать рот, я пять раз подумаю и только потом говорю. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда мне снится ее голос плеера с севшими батарейками: "Ну ты, мужик, попа-а-а-л!"
Детство вещей[*]
Текст этого второго обращения был изначально выстроен как принципиально непрофессиональное повествование, и этот его дилетантизм и нескрываемое любительство объясняется не столько характером моего главного источника - обыденного сознания (можно было бы рассматривать это сознание и с позиций какой-нибудь из антропологических дисциплин, в пред-мет которой оно так или иначе входит, например, антропологии сознания). Они вызваны теми трудностями, с которыми я столкнулся, пытаясь использовать что-то из известного мне про-фессионального инструментария. Мне представляется, что дисциплинарное сознание не в состоянии уловить те моменты в отношении людей к вещам, которые меня волнуют. Помимо этого, сам язык, а точнее, языки, которыми оперирует дисциплинарное сознание, как бы иссушают живые отношения между человеком и вещами, и здесь для меня - главное.
Что я, собственно, имею в виду, называя отношения между человеком и вещами живыми? И есть ли способ передать не столько смысл, сколько сплавленные с ним переживания, которые связаны именно с "живыми вещами"? Мне кажется, что быть может не единственной, но одной из самых верных возможностей уразумения, а точнее совместного переживания этой вытесняемой на периферию профессионального дискурса стороны вещей является обращение к собственному опыту, и прежде всего - к опыту детства, когда эта сторона отношений с вещами пе-реживается особенно остро и когда связь между человеком и миром еще не рассечена профессиональным cogito. В качестве примечания: я полагаю, что профессиональное сознание остается сущностно картезианским; посткартезианское сознание может рассматриваться как постдис-циплинарное и, в этом смысле, как постпрофессиональное. Поэтому обращение к памяти детства позволяет, как мне кажется, ярче увидеть различия между представлениями о вещах у про-фессионалов и обывателей. Дети, как мне кажется, то ли в результате большей открытости миру, то ли в силу иных, неизвестных мне причин, обладают большим мифопоэтическим тактом и, в силу этого, вхожи в те миры, которые впоследствии оказываются для взрослых заказанными.
С записью теперь уже полузабытых впечатлений от общения с вещами в детстве, разумеется существуют проблемы, но, как мне кажется, они преодолимы. Гораздо существенней мне представляется проблема жанра, в котором об этих впечатлениях можно говорить. Здесь, очевидно, я должен извиниться еще раз за дилетантство и неискушенность: так случилось, что до сих пор подавляющее большинство текстов, которые мне приходилось писать, были тексты в жанрах научной статьи, монографии, обзора и т.п., в каждом из которых пишущий скрыт за безличными конструкциями, а следы его присутствия, по законам этих жанров, всячески скрываются и маскируются. Единственными известными мне научными жанрами, где автор со своим эмоциональным отношением к событиям спрятан не окончательно - это жанры дневниковые (полевой дневник, дневник путешествий) и мемуарные (от повествования о других и себе до некролога). Все эти жанры мне не подходят либо по причине бесстрастной объективности, либо из-за того, что в канонизированный ими список сюжетов мой сюжет не вписан. Словом, я не смог найти тот жанр среди мне известных, который бы оснастил меня верными перспективой и интонацией, и, в результате, мне приходится довольствоваться, а вам мириться с тем коллажем, или пастишем, который складывается из столкновения принципиально различных способов рассмотрения, задающих разные оптики видения нас в мире вещей и вещей в нашем мире.
Итак, пытаясь ускользнуть от оков профессионального сознания, я вынужден обращаться к опыту детства, и не детства вообще (это-то как раз и превратило бы меня в "специалиста"), а к памяти о своем собственном детстве и своих собственных отношениях с вещами. Конечно же, обращаясь к памяти об этих отношениях, я вынужден признать неустранимость опыта, "следующего за" детством, и тех неизбежно порождаемых этим опытом прочтений и интерпрета-ций, сквозь наслоения которых так трудно (и возможно ли вообще?) пробиться. Хотим мы с вами того или нет, но между детскими ощущениями и опытом и опытом повествования об этих ощущениях и опыте появляется со временем словечко "память", стирающее и подменяющее непосредственность и свежесть тех ощущений, на опосредованность и стертость этих слов.
Сказать о том, что мир моих отношений с вещами в детстве был околдованным, значит не сказать почти ничего. Попытайтесь вспомнить сами практически любую вещь (я даже не говорю здесь о вещах заведомо антропоморфных, типа кукол, которых и язык не поворачивается назвать вещами) или даже её фрагмент (трещину на потолке, узор висящего у кровати ковра) из исчезающего мира тех нас, из мира нашего детства. Когда я сегодня слышу о том, что современное конвейерное производство изгнало из нашей жизни те очеловеченные и одухотворен-ные вещи, которые населяли мир до его появления, я, с одной стороны, кажется, понимаю, что здесь утверждается, но, с другой стороны, я ведь одновременно и помню, что эта массовость и вменяемое отсутствие индивидуальности нисколько не препятствовало полноценному общению с этими якобы "безликими" вещами, как, думается, и не является препятствием сегодня для наших детей и внуков, словом для тех, мир которых пока не расколдован. Это "пока", ко-нечно же, длится и, в этом смысле, непокидаемо: в каждом из нас живет ребенок, который помнит "тот стол" и "то дерево", и "тот дом", которые имели душу и с которыми можно было общаться точно так же или даже лучше, чем с иными людьми.
Помню, например, мое общение с оловянной ложкой деда, единственной, кажется, вещью, кроме пары пожелтевших фотографий, которая от него осталась и передавалась в семье, когда деда забрали в неведомом для меня тогда тридцать седьмом, оставив бабушку с семью малолетками на руках. Ложка была на треть источена зубами сменявшихся поколений едоков. Есть ею - было большой честью и привилегией, которая доставалась в острой конкурентной борьбе с моим двоюродным братом. Ложка потом утонула в одном из водоворотов на слиянии Бии и Ка-туни, месте, где начинается великая сибирская река Обь. Тамошние острова были объектом нашего ежегодного паломничества: каждый год в июне мы отправлялись на лодке с ночевой на ловлю стерляди для именинного пирога, - коронного блюда на дне рождения у моей бабушки. Стерлядь ловилась ночью и самым ранним утром на переметы, на каждом крючке которых сидело по живой миноге, по местному называемой просто вьюном. Сама минога добывалась из придонного ила, скопившегося у старой пристани - единственном известном нам месте, где течение реки было слабым, и где дно состояло не из обычных для быстрой и холодной Бии песка и гальки, но черного жирного, неизвестно откуда взявшегося (перегнившие водоросли? занесенные в эту узковатую протоку щепки и кора сплава?) ила. Ил полагалось быстро зачерпывать ведром и выбрасывать на берег, где он потом внимательно рассматривался на предмет обнаружения розовых и слепых, ужасно шустро извивающихся "вьюнов". Ложка утонула, выпав вместе со всем остальным скарбом, когда лодка перевернулась от волны проходившей в опасной близости "Ракеты" (тогда еще недавно пущенного по Бии теплохода на подводных крыльях), а память о ней осталась. Вернувшись в Бийск, город моего детства, как-то раз через много лет, я обнаружил, что Бия сильно обмелела, появилось много новых островов, и подумал, что может быть когда-нибудь эта река исчезнет совсем, как исчезла на наших глазах кедрово-пихтовая тайга ее истоков, и тогда мою ложку обнаружит какой-нибудь археолог из будущего, и она попадет в музей, ведь есть вещи, которые живут много дольше, чем люди.
Один из секретов этого "умения общаться" у вещей (и это их выгодно отличало от "человеческих собеседников", особенно патологически повзрослевших, то есть таинственным образом утративших опыт детства, или вытесняющих его и настаивающих на своей идентичности) заключался в их, вещей, способности (ну, разумеется, скажем мы теперь, не вещей, а нашего сознания) к бесконечным трансформациям: стол легко превращался в поле боя или корабль, ковер - в шкуру мамонта или древнюю рукопись на забытым человечеством языке. Не помню момента (видимо, не хочу его помнить, что само по себе свидетельствует о травматическом характере утраты), когда вещи начали терять (впрочем, не вполне, а как бы исподволь и по неуловимо малым частям) эту свою способность превращений. Речь не о том, что подобранная палка перестала становиться саблей или автоматом, как раз нет, не перестала, но она "потеряла лицо", превращаясь в "саблю вообще" или "автомат вообще", а не саблю и автомат с особой и непо-вторимой судьбой. И тогда, не утверждаю что у всех так, но повествую о себе, вещи стали собираться: не так как мы, люди, сейчас - на конференции и симпозиумы, а в качестве экземпляров коллекции. Страсти и драмы живого общения со всеми персонажами соприсутствующего мира вещей стали как-то фокусироваться и сосредоточиваться на узком и, в силу этого, избранно-элитарном классе: спичечных этикетках, монетах, марках, морских и речных раковинах, минералах, бабочках, растениях на подоконнике (кактусах) и в гербарии (всех остальных). До сих пор помню свой трепет и полноту бытия "пред лицом" треугольной марки с изображением налима (одного из тех самых, которых я колол вилкой на галечной отмели в холодной воде реки моего детства) и надписью Монгол шуудан, или стоившую целое состояние серию марок королевства Бурунди с изображениями слонов, бегемотов, львов и прочих представителей местной фауны. Помню их запах (не налимов и животных, а марок). Помню белоснежную с нежнокремовыми подпалинами редкую раковину из рода Murex, бог весть как нашедшую свой путь в тот шахтерский городок, где я совпал с ней во времени и пространстве и спас ее от незавидной судьбы пепельницы. 
Вот, к слову, и о судьбах вещей, и это уже второй трюизм, вторая неновость из свойств вещей (помимо уже упомянутой околдованности и превращаемости), повествованием о которых я надеюсь развлечь читателя. Судьбы вещей, в отличие от уже, видимо, мной предугадываемых (конечно же ошибочно, то есть высокомерно и предвзято) судеб окружавших меня людей, всегда казались мне интересней и богаче. Наверное это было проекцией моей собственной небогатой событиями жизни, или, точнее, побочным продуктом восприятия этой жизни как недоста-точно на фоне судеб вещей насыщенной: вещи пересекали недоступные для окружающих меня простых смертных и меня самого границы и приходили из эпох седой, как казалось, древности. Китайский чай путешествовал из-за географически для меня близкой, но от этого не становящейся более доступной границы, а зубы мамонта и костюм шамана в местных музеях, один из которых был создан усилиями моего учителя истории, были не только останками давно умершего мамонта и, по ощущению, едва ли не столь же давно умершего шамана, но и воротами в погибшие Атлантиды воображаемых миров, воплощающимися в моем мире тем "вещественней" и зримей, чем эфемернее оказывались сами вещественные свидетельства их, этих миров, прежнего существования. Трогать зуб мамонта (а это позволялось! - поздно, как непоправимо поздно я готов выразить свое восхищение и благодарность моему, увы, уже почившему школьному учителю) было могучим и действенным способом перемещения в каменный век, машиной времени, и, боже, как я все же завидовал судьбам и этой пачки чая, и этого зуба, и даже этого шаманского костюма, этим уцелевшим свидетелям миров и эпох, вход в которые был мне заказан.
И к ложке, и к шаманскому костюму, и, вот еще - к деревенскому плетню рядом со старым домом моей тети на Алтае, плетеному из почерневшей на солнце лозы, затвердевшей от времени и напоминающей какую-то ископаемую кость, - я время от времени мысленно возвращаюсь и, кто знает, может и этнографом я стал благодаря им, вещам из моего детства. Впрочем, как этнограф я никогда не занимался тем, что именуется на дисциплинарном жаргоне "материальной культурой". Казалось, что извлеченная из живого человеческого обращения вещь умирала. Вещи в частных коллекциях, в отличие от музейных экспозиций, представляются мне более счастливыми: их гораздо чаще касаются руки человека, их окружает аура сопричастности жизни владельца, их любят. Музей, конечно же, удобная экспериментальная площадка для специалиста, его полигон, его операционная, в которой вещи аналитически разлагаются, сопоставляются, сравниваются, выстраиваются в ряды и занимают свои места в классификациях и каталогах, обретая знаковую жизнь, далекую от их "нормальной": никто не прядет на умолкнувших прялках, молчат шаманские бубны, а алтайский кам, владелец костюма, расшитого нитками каури, скорее всего погиб в Шортанды - местечке, затерянном в казахской степи, куда ссылали в тридцатые годы, как я узнал позже из рассказов самих алтайцев, всех местных камов. Костюм сменил несколько музеев и экспозиций, скорее всего по обмену, пока не попал в известный мне тогда краеведческий музей, где я его и разглядывал, размышляя, впрочем, больше о, как мне тогда казалось, завидной судьбе выловленных, наверное, в Индийском океане раковин каури, а вовсе не об участи его прежнего владельца.
Быть может, угасание музейных вещей как-то связано с тем изначально примененным насилием (изъятием в ходе бесконечных наших экспроприаций, раскулачиваний, коллективизаций, сселений и переселений, укрупнений и т.п.)? Тогда вещный мир музеев и выставок распадается на дары, находки, и добычу. Драгоценные книги из музейной библиотеки того созданного моим учителем музея были даром некоего профессора Пенна, не по своей, видимо, воле оказавшегося в Сибири и являвшегося отдаленным потомком того самого Пенна, который основал штат Пенсильвания. Зуб мамонта, разумеется, относился к находкам. А вот костюм шамана, занимавший целый застекленный шкаф в другом музее моего детства - в городе, где я родился и проводил летние каникулы - был, конечно же, добычей, трофеем в узаконенном государством разбое.
Изъятие вещей из потока жизни и живого, не скованного ролью музейного экскурсанта, об-щения видится как еще одна причина их умирания. Знаковую, даже символическую жизнь, о которой я упомянул в связи с музейным заточением вещей, могут играть и играют и вещи "на свободе". Однако здесь они включены, помимо своих символических ипостасей, в многообраз-ные связи и отношения с людьми и другими вещами и явлениями. Если мы с вами поразмышляем о загадках такой категории обыденного сознания как вещность, то, мне кажется, мы придем к заключению, что вещь живет лишь в действии, поэтому, помимо прочего, в понятие вещ-ности входит изнашиваемость. Хранение вещей как антитеза изнашиваемости, их сбережение всегда поддерживается средствами мифологии, или идеологии: в случаи семьи - семейными преданиями; в случае музеев - официальными и поддерживаемыми государством и обществом представлениями о культуре. Мифология "теплее" идеологии, и вещам живется в ней уютней. Знаковость вещи в музейном контексте и ее же знаковость в потоке обыденной жизни - качественно разнятся. Именно из-за того, что за рамками музейного хранения вещь включена в более разнообразную и "свойственную" ей деятельность: прялка - прядет; молоток - забивает гвозди, окружающая такую вещь символика помимо общезначимого публичного измерения (того само-го, на почве которого и вырастают официальные идеологии культуры) обладает еще и измерением личностным. Если кого-то не убедил мой пример с ложкой, я готов привести еще один, с уже упомянутым мной плетнем.
Как ложка деда, символизировавшая для меня весь мир уездного городка - бийского Заречья, где я часто проводил часть своих школьных каникул, так и плетень являлся для меня, го-родского мальчишки, воплощением загадочного мира русской сибирской деревни. Я упомянул слово "русской" лишь для того, чтобы подчеркнуть не свою близость, а наоборот, ту пропасть, через которую мне, приезжающему из города к родным для меня людям (в доме моей тетки, се-стры матери, жил один из моих двоюродных братьев, с которым мы были неразлучны все детство) приходилось практически каждый раз заново выстраивать отношения, восстанавливая утраченное доверие, нет, не моих родственников, но всего их деревенского окружения, для которого не только я, бывающий там наездами, но и все мои родные, жившие там, практически всю жизнь, не были вполне своими (тетя учительствовала в местной школе, и деревенские ее выделяли по причине образования; дядя работал кем-то в конторе колхоза и, следовательно, относился к "начальству"). Я со своим городским русским языком поначалу едва понимал каждое второе слово и не только по причине иного их произношения, но и из-за того, что сами слова оказывались сплошь и рядом неизвестными. Причем деревенские оказывались все же более сведущими относительно мира, откуда явился я, чем я, плохо разбиравшийся во взаимоотношениях их вселенной: мой язык был знаком им по школе, радио, газетам; их язык и логика их поступков прояснялись для меня не вдруг. Приходилось учиться, сопоставляя виденное и слы-шанное, и постепенно уясняя, что, например, емуранки - это суслики, а кожушки - чертополох и татарник.
 Но вернемся к плетню. В какие такие действа вовлечен был полуразвалившийся плетень напротив старой деревянной избы моей тети, освещавшейся по вечерам керосиновой лампой (электричества в те годы в этой деревне еще не было)? Стоял себе и стоял, неизвестно, кстати, что огораживая. Никакого дома напротив не было; тетина улица была однолинейная и недлинная, открывавшаяся на большой кочковатый луг, поросший этими самыми кожушками и другой разной травой, например, сусаком (тоже неведомое в городе слово, и подобно емуранкам, как это я выяснил много позже - тюркизм, проникший, скорее всего, от некогда соседствовавших кумандинцев), болотной травой, выдернутые беловатые концы стеблей которой какого-то чуть сладковатого и крахмалистого, но приятного вкуса, мы, мальчишки, с удовольствием ели. Из травы, когда мы босые мчались по ней (летом обувь надевалась только в случаях поездки в го-род и только на время самой поездки, не по причинам экономии, а из-за того, что босиком было удобней) вылетали сотни бабочек голубянок. Впрочем, сам плетень явно кому-то принадлежал; дом его владельцев стоял в стороне, а за плетнем возносились высокие и густые старые ивы и, кажется, виднелся какой-то огородик с картошкой и неизвестно чем еще. Никогда я не видел обитателей этого дома - хозяев плетня. И хотя сам плетень был совсем рядом, наши детские маршруты не то чтобы за него, но и к нему никогда не пролегали, разве что он немо наблюдал за нашей игрой на лугу в лапту и бабки (игры, конечно же в ту пору в городе уже неизвестные, но в моей деревеньке продолжавшие жить). Самое главное действие плетня было даже не ого-раживание какой-то обходимой уважительным молчанием тайны, но то простое обстоятельст-во, что он был сплетен. Здесь уж я был вынужден опираться на свое воображение, поскольку понимал, что я сплести такой плетень не мог; нужны были крестьянские умения обращения с лозой и крестьянские руки, и хотя я никогда не видел хозяев плетня, но крестьянских рук в этой деревне я мог увидеть немало. Они поражали меня не меньше плетня и как-то рифмовались с ним, своей узловатостью, распухшими от работы суставами, обветренностью и цветом. Рассматривая плетень, я видел эти руки, а глядя на руки - я видел сплетения толстых обветренных ветвей. Руки шахтеров в городе, где я учился в школе и где жил зимой, были твердые, черные и разношенные, скорее похожие на шахтерские сапоги, чем на руки-плетни моих деревенских знакомых. До сих пор помню руки теперь уже давно умершей бабушки Арины, не моей городской бабушки, а бабушки моего двоюродного брата. Руки ее чаще других рифмовались с плетнем, так как жила она в доме тети, совсем от него недалеко. В дошкольном и раннем школьном возрасте я был абсолютно уверен, что именно она взрастила Пушкина, не только из-за ее имени, но и из-за ее певучего языка и деревенского проживания; то обстоятельство, что деревенька моя называлась иначе, меня нимало не смущало: Пушкин, мне было известно, убит, старушка переехала и воспитывала теперь моего брата, который выезжая в город страшно по ней скучал, даже иногда плакал и требовал отвезти его "к бабушке Арине". Здесь образ брата с его неизбывной тоской по деревенской старушке как то сливался с образом самого поэта, что еще более утверждало меня в подлинной сопричастности бабушки Арины судьбам русской литературы. Но вернемся к плетню. В какие такие действа вовлечен был полуразвалившийся плетень напротив старой деревянной избы моей тети, освещавшейся по вечерам керосиновой лампой (электричества в те годы в этой деревне еще не было)? Стоял себе и стоял, неизвестно, кстати, что огораживая. Никакого дома напротив не было; тетина улица была однолинейная и недлинная, открывавшаяся на большой кочковатый луг, поросший этими самыми кожушками и другой разной травой, например, сусаком (тоже неведомое в городе слово, и подобно емуранкам, как это я выяснил много позже - тюркизм, проникший, скорее всего, от некогда соседствовавших кумандинцев), болотной травой, выдернутые беловатые концы стеблей которой какого-то чуть сладковатого и крахмалистого, но приятного вкуса, мы, мальчишки, с удовольствием ели. Из травы, когда мы босые мчались по ней (летом обувь надевалась только в случаях поездки в го-род и только на время самой поездки, не по причинам экономии, а из-за того, что босиком было удобней) вылетали сотни бабочек голубянок. Впрочем, сам плетень явно кому-то принадлежал; дом его владельцев стоял в стороне, а за плетнем возносились высокие и густые старые ивы и, кажется, виднелся какой-то огородик с картошкой и неизвестно чем еще. Никогда я не видел обитателей этого дома - хозяев плетня. И хотя сам плетень был совсем рядом, наши детские маршруты не то чтобы за него, но и к нему никогда не пролегали, разве что он немо наблюдал за нашей игрой на лугу в лапту и бабки (игры, конечно же в ту пору в городе уже неизвестные, но в моей деревеньке продолжавшие жить). Самое главное действие плетня было даже не ого-раживание какой-то обходимой уважительным молчанием тайны, но то простое обстоятельст-во, что он был сплетен. Здесь уж я был вынужден опираться на свое воображение, поскольку понимал, что я сплести такой плетень не мог; нужны были крестьянские умения обращения с лозой и крестьянские руки, и хотя я никогда не видел хозяев плетня, но крестьянских рук в этой деревне я мог увидеть немало. Они поражали меня не меньше плетня и как-то рифмовались с ним, своей узловатостью, распухшими от работы суставами, обветренностью и цветом. Рассматривая плетень, я видел эти руки, а глядя на руки - я видел сплетения толстых обветренных ветвей. Руки шахтеров в городе, где я учился в школе и где жил зимой, были твердые, черные и разношенные, скорее похожие на шахтерские сапоги, чем на руки-плетни моих деревенских знакомых. До сих пор помню руки теперь уже давно умершей бабушки Арины, не моей городской бабушки, а бабушки моего двоюродного брата. Руки ее чаще других рифмовались с плетнем, так как жила она в доме тети, совсем от него недалеко. В дошкольном и раннем школьном возрасте я был абсолютно уверен, что именно она взрастила Пушкина, не только из-за ее имени, но и из-за ее певучего языка и деревенского проживания; то обстоятельство, что деревенька моя называлась иначе, меня нимало не смущало: Пушкин, мне было известно, убит, старушка переехала и воспитывала теперь моего брата, который выезжая в город страшно по ней скучал, даже иногда плакал и требовал отвезти его "к бабушке Арине". Здесь образ брата с его неизбывной тоской по деревенской старушке как то сливался с образом самого поэта, что еще более утверждало меня в подлинной сопричастности бабушки Арины судьбам русской литературы.
Получается, что главным свойством плетня и основным его действом, во всяком случае именно так он действовал на меня, было отмыкание памяти. Наверное вольная жизнь плетня, омываемого теплыми запахами парного молока и коровьего навоза, нагретой на солнце и не вдруг остывающей дорожной пыли и прелой листвы, а вечером - приносимыми из оврага за огородом звенящим от первого вечернего комара крапивным духом и волнами поднимающейся вместе с туманом симфонией речных ароматов от недалекой старицы, симфонией, в которой явственно различались ноты кувшинок и лилий, ряски и роголистника, а для неравнодушного носа - даже запахи спящих в глубине рыб: тугих полосатых окуней, прохладной плотвы и ленивых линей, - запахами, которые так пропитали его, что уже даже, нет, не его вид, а только воспоминание о нем властно перемещало меня в деревню. Прошло много лет, с тех пор как я расстался с ней. Но вот недавно, наткнувшись на магазинной полке на книгу "Плетение из ивового прута" я не смог пройти мимо. Старый знакомый смотрел на меня с каждой фотографии и рисунка, размножаясь и отражаясь в бесчисленных своих детках и внучатах - корзинках, абажурах, креслах-качалках, отворяя калитку в казалось навсегда ушедший мир деревенского детства…
***
Возьмем за спинку некоторый стул…
Статус такого рода вещей как мои знакомцы - плетень и ложка - трудно определим: для обычной вещи они избыточно общительны; но как живые собеседники - бессловесны. Навер-ное, в тесном общении с людьми вещи иногда расстаются со своей немотой, однако голоса их так тихи… Кстати сказать, вещам под силу общение и на специальных, то есть профессиональных языках - археологу они сообщают одно, искусствоведу - другое, криминалисту - третье. Кто знает, может быть у упомянутых мною даров, находок и добычи разная способность к языкам, вот почему музейные трофеи требуют профессиональных переводчиков-экскурсоводов?
Затрагивая тему о языках вещей, я не могу не прокомментировать то и дело устойчиво здесь воспроизводящийся сюжет противостояния обыденного (профанного) и профессионального (сакрального?) сознания. Собственно, как мне представляется, само становление и развитие музеев и музейного дела и в России, и во всем остальном мире шло бок о бок и являлось одной из сторон профессионализации, становления современных профессий и профессиональных сообществ. При всем многообразии современных музейных жанров и целей устроения музеев во-обще, все они - от картинной галереи до выставки истории техники, и от музея восковых фигур, или рока, до обычного краеведческого с его традиционными экспозициями местной флоры и фауны - восходят к одному архетипу - собранию курьезов. Но что такое курьез, почему нам интересно посещать музеи и выставки, помимо чисто статусных и узко профессиональных интересов? Именно курьез и отношение к нему служит водоразделом между сознанием обыденным и профессиональным, миром взрослого и ребенка, современным рациональным и архаическим мифопоэтическим сознанием. Все дело в том, что и обыденное и архаическое и детское сознания приписывают вещам действенную силу, не проводя здесь отличий от людей и животных. Вещи могут оберегать и причинять зло; через чужую вещь приходит беда (порча, болезнь), а своя может защитить в сложных обстоятельствах. Курьез же в этом отношении, как вещь из другого мира (другого в терминах исторических, религиозных, этнических и т.д.), как вещь необычная и неведомая, становится опасной вдвойне. "Приручение" курьезов, произошедшее в профессионализованной культуре современности внутренне связано с идеей освое-ния и колонизации иных миров, овладения Другим. В этом смысле "музеефикация" миров иного продолжает быть связанной с основным политическим проектом модерна - глобальной экспансией, попыткой охвата и захвата миром "своих", европейской культурой, всех остальных миров и культур. Вот почему музеи и музейная деятельность остается важнейшей сферой по-литического, культурной политики; это политика отношения к Другому, политика освоения "миром своих" разнообразных "инаковостей".
Я не случайно в качестве эпиграфа к этому разделу взял известную строку из стихотворения Иосифа Бродского. Может быть я вчитываю те смыслы, о которых я бы хотел говорить на ее примере. Но мне мнится, что в этой строке гениально сопряжены и помещены в единое про-странство те два обычно противостоящих друг другу сознания, о которых уже велась речь, - сознание бытовое и обывательское ("возьмем за спинку…") и сознание профессиональное и философское ("некоторый стул…"). Обыватель "берет" стул в самом обыденном смысле слова, его отношение к вещи инструментально. Вещь хороша своим служением, исполнением конкретной функции. Профессиональное сознание "берет" стул как категорию, акт взятия равен акту схватывания, категориального "подвешивания", понимания, или рассмотрения. И здесь я опять хотел бы вернуться к теме музея, музейной вещи, то есть вещи, экспонируемой, выставленной на обозрение. Мне не кажется случайным появление слов, связанных с окулярной и оптической тематикой при всяком упоминании музея.
Я уже обращал ваше внимание на то, что изъятие вещей из потока жизни, то есть из живого контекста их обычного функционирования ассоциируется с их умиранием или заточением. В этом смысле архетипом восприятия музея для обыденного сознания становится склеп, мавзолей, или тюрьма. Метафора тюрьмы как изоляции опасных диковин, помещения курьезов в пространство, где их можно безопасно разглядывать, метафорического приручения чужих миров сопрягается с метафорой мавзолея, мумификации вещей, извлекаемых и изымаемых из живого функционирования и помещаемых в "хрустальные гробы" (музейные витрины). То, что в современном обывательском сознании произошла инверсия и прежде сакральное и сокрытое от взоров (мумии) стало выставляться на всеобщее обозрение[12] не должно нас удивлять на фоне всеобщей секуляризации массового сознания. Мертвое для многих перестало осмысливаться как вредоносное; на него стало можно глазеть. Именно глазение, как "праздное глазопяление без цели и толку[13]" стало основным модусом взаимодействия с музейными экспонатами со стороны непрофессиональной публики, так называемых посетителей, носителей пресловутого обыденного сознания. Собственно, именно этот модус взгляда на вещи остается наиболее близким к изначальному образу музея как сборища курьезов: основная функция вещи здесь - удивлять, и музейные вещи и сегодня продолжают функционировать прежде всего в этом качестве.
Однако вещь в музее уже на ранних этапах музееустроительства стала играть и продолжает играть еще одну роль. Сам музей как коллекция вещей здесь выступает не столько в качестве их усыпальницы и мавзолея, сколько как реставрационная мастерская, где реконструируются (реставрируются-восстанавливаются) уже утраченные (не данные нам в нашей повседневности) смыслы и связи. Здесь господствует иной окулярный модус - модус всматривания, заинтересо-ванного разглядывания и разгадывания. Разумеется - этот модус всецело принадлежит созна-нию профессиональному. Профессионал (археолог, антрополог, искусствовед, зоолог, историк и т.д.) всматривается в вещь, пытаясь реконструировать тот мир значений, свойственный живой функционирующей вещи, который ушел, или недоступен для непосредственного наблюдения. Вещь попадает в музей (точнее помещается в него специалистом) либо как уже ушедшая из нашего обыденного мира (осколок былого быта, свидетельство иных эпох), либо как экзотическая (существующая где-то далеко, за пределами мира своих, и тем самым мало доступная), либо, наконец, как штучная, уникальная (диво, произведенное мастерством его автора; тот же курьез, но не из миров истории и чужих культур, а из запредельного для обывателя мира гени-альности, мира творцов, которые, по известному слову и сами-то "не от мира сего"). В любом случае - музейная вещь, по определению, является вещью, покинувшей наш мир, ушедшей из него исторически, либо никогда в нем не находившейся ("гость других миров"), либо, наконец, раритетом, редкостью, которая становится доступной только в ситуации публичного экспонирования, а до того известной лишь узкому кругу и, в этом смысле, никогда не принадлежавшей вещной культуре мира своих (элитарная вещь - картина, скульптура и т.п.).
Итак, музей оказывается пространством встречи двух взглядов на вещь и двух сознаний, рождающих эти взгляды - глазения и всматривания, сознания обыденного и профессионального. Существует ли возможность снятия (в смысле гегелевского Aufhebung), позитивного синтеза этих модусов? Мне известен лишь один историко-культурный пример (вероятно, есть и другие) - это созерцание, или любование, живое общение с вещью, меняющее человека и его состояние[14] . Речь идет о культуре любования, генетически восходящей к дзэнскому (чаньскому) созерцанию и буддистскому идеалу недеяния. Но что происходит в модусе такого созерцания с топологией миров своего и чужого? Вместо помещающего на безопасное расстояние глазения и осваивающего (объясняющего миры иного категориями мира своего) профессионального рассматривания, созерцание остраняет известное и привычное, разрушая иллюзию "свойскости" мира, вводит чужое в самое сердце мира своих. Но вводит таким образом, что "внешнее чужое", экзотика иных миров и культур, становится ненужно избыточной. Впрочем, мне кажется, я уклонился от темы.
О вещности вещей и веществ
В этом повествовании о вещах нельзя не упомянуть и о том, что их восприятие людьми постоянно меняется. Во всяком случае, я помню, что сама идея вещности (свойства быть вещью) с течением времени трансформировалась, то ли только в моей голове по мере взросления, то ли и в обществе, в обыденном сознании окружающих меня людей тоже. Разумеется, что идея вещи, объем понятия "вещь" в неспециализированном, "профанном" сознании значительно отличается от соответствующих научных и философских представлений, да и классификации, про-изводимые этим сознанием, быть может даже запутаннее и изощреннее научных. В обыденном сознании, например, сама "вещность" вещей ощутимо меняется в зависимости от конкретного референта - того объекта, к которому могло быть приложено нарицательное имя "вещь". Наибольшей вещностью обладали для меня вещи, сделанные человеком: стол, стул, ложка, моло-ток, которые, помимо рукотворности, имели свойства, как бы, наверное, выразился Хайдеггер, сподручности (das Zuhandenen), и соразмерности человеку. Такого рода вещи часто пережива-ют своих хозяев и попадают в руки археологов, которые именуют их артефактами.
Ядром всего этого класса "сподручных" вещей были инструменты и оружие, для приведение в действие которых достаточно было рук одного человека: те же прялка, молоток, сабля и т.п. Несомненно, рукотворный дом, иногда построенный самим его обитателем, в сравнении с инструментами, с помощью которых он был построен - пилой, рубанком, молотком, гвоздями - был уже вещью в меньшей степени. Большой дом, к примеру, пятиэтажный, и построенный с помощью сложных механизмов и усилиями множества людей, вещью именовать было совсем сложно, да и никто его так не называл. Недвижимость, таким образом, принадлежа вещному миру, какими-то своими гранями (громоздкостью и несподручностью?) явно выходила за его границы. Дома могли иметь свои жизни и истории (как и инструменты - свои), но истории домов были более публичны, более официальны и доступны широкой публике, по сравнению с интимными семейными и частными историями "малых вещей" (исключая, пожалуй, драгоцен-ности, которых, впрочем, в мире моего детства практически не было). У домов могли быть индивидуальные владельцы, и это наделяло их большей вещностью, чем, например, находящиеся в коллективном пользовании и столь же рукотворные, более того, даже построенные по сход-ным технологиям, мосты и дороги.
Были ли вещами нерукотворные находки - камни, раковины, кости исчезнувших животных? Несомненно да, однако и здесь многое зависело от сподручности и соразмерности человеку. Яблоко, например, оставаясь природным и нерукотворным "объектом" находилось ближе к во-площению свойств вещности, чем яблоня, камень - ближе чем гора. И горы, и реки, и леса, и луга, и болота, имея помимо нарицательных имен еще и имена собственные, вещами никто не называл и не считал. И огороды, сады и пашни, и крохотные по тем временам дачные участки и деревенские палисадники, приобретая некоторые смутные характеристики рукотворности и имея хозяев и пользователей, то есть входя в класс недвижимости, все же от этого вещами не становились, оставаясь владениями. Отклонялись от идеального воплощения вещности и вполне сподручные, соразмерные и рукотворные предметы так называемой духовной культуры и искусства - книги, картины, музыкальные произведения. Назвать книгу или картину вещью, в особенности в восклицании "Это - вещь!", конечно же было можно, но здесь это слово имело совсем иной, не вполне вещный смысл, приобретая служебный характер междометия. Кстати, уже скульптура, в особенности так называемых малых форм, входила в вещный мир и мыслилась его неотъемлемой частью: статуэтки, знаменитые слоники, фарфор - вещами и считались, и назывались.
Помимо инструментов, самостоятельное ядро вещности представляли собой вещи носильные - одежда, обувь, головные уборы; у животных - упряжь и сбруя. Но если у инструментов вещность выступала прежде всего как сподручность, то в одежде на первом плане оказывалась соразмерность и рукотворность. Впрочем, фраза "Сколько у тебя вещей!" относилась прежде всего к богатству гардероба; такое же восклицание по поводу обуви уже не было возможным. Вещами, разумеется, именовался и весь домашний скарб - посуда, разнообразные емкости, флаконы[15] , коробки. Средства домашних увеселений (патефоны, радиоприемники, а позднее и телевизоры), другая техника - пылесосы, холодильники, мясорубки, представляющая собой механизмы-инструменты, промежуточный класс между сподручными инструментами и более громоздкими станками домашних ремесленников, иногда определялась в совершенно особый класс "дорогих вещей", основанием для выделения которого становилась их стоимость. К ве-щам же относились предметы мебели, постельное белье и многочисленные мелочи, выползающие изо всех углов во время уборок, ремонтов и переездов. Вся эта "движимость" охватывалась одним емким словом - пожитки.
Не все вещи могли обрести собственную судьбу, к тому же завидную для людей; такое выпадало для самых износостойких и "многоразовых": редко кто мечтал и размышлял об уникальной и индивидуальной судьбе конкретной спички, сигареты, или свечи, если только сама эта спичка, сигарета, свеча не была уж слишком экзотической - с зеленой, вместо коричневой серной головкой, с нездешним и непривычным ароматом и т.п. Только сказочники, подобные Андерсену, могли сочинять истории про иголку, наперсток или старый уже выброшенный башмак[16] . Хотя, вот уже про ложки, даже абстрактные, не присутствующие среди приборов в моей квартире, я мог фантазировать и сам, сонно зависнув над утренней кашей, которой меня стремилась накормить до школы мама, и не реагируя на ее предупреждения: "Ешь, не мечтай, опоздаешь!" Помню, как-то услышав английскую версию нашего выражения "родиться в рубашке" - "родиться с серебряной ложкой во рту", я долго размышлял о мире, в котором такие рождения были возможны. Счастливчики, родившиеся с этими ложками, разумеется, берегли их как зеницу ока, передавали своим детям, а ложки самых великих из них, с затейливыми вензелями и необычных форм, оказывались потом в местных музеях, поскольку разные ветви разрастающихся семей никак не могли поделить это драгоценное наследство. Вокруг ложек вырастала собственная мифология и ритуалы, создавались клубы и тайные общества; мир серебряных ложек постепенно обретал свои особые, отличные от других обществ законы развития, следствия которых я и продумывал над остывавшими завтраками.
У вещей, что ни говорите, были судьбы, на мою же долю выпадала лишь незавидная участь виртуального свидетеля; вещи жили напряженной и полной приключений жизнью, а мое в ней соучастие ограничивалось прикосновением, кратким эпизодом их триумфального шествия по ветшающим людским мирам…
Вместо заключения
Ностальгия - сильное чувство; его формотворческое и стилеобразующее влияние на тот постоянно переписываемый проект, который на жаргоне модерна лапидарно обозначен иероглифом "Я", часто недооценивается. Сопутствующие и рифмующиеся с ностальгией (если не вдохновляемые ею) проекты по вписыванию индивида в историю, в ее обстоятельства места и времени (разнообразные упражнения человеческого духа в жанрах мемо, мнемо - все эти мемуары и разнообразные гиштории) в самом их истоке оказываются связанными с непрекра-щающимися поисками идентичности как у отдельных людей, так и у огромных человеческих конгломератов - современных политических наций, что и объясняет частоту с которой переписывается история, и страсть, сопутствующую этому занятию. В этом смысле нет большего исторического вымысла, чем постулируемая некоторыми историографами fides historiae.
Доминирующим регистром, в котором человечество "переписывает" собственный портрет, обращаясь за вдохновением к созидаемому ad hoc прошлому, является зрение; движения души остаются потаенными до тех пор пока не визуализируются в знаках письма, кадрах кинохроники, гримасах фотопортретов и скульптурах малых и монументальных форм. Помимо письма, остающегося привилегированным и доминирующим средством этого усилия по опредмечиванию калейдоскопически сменяющих друг друга проектов "потребного Я", пожалуй, лишь только фотография, благодаря своей "одомашненности" и сподручности претендует на роль важного инструмента визуализации прошлого [17]. Домашний фотоальбом, как послушная машина вре-мени, всегда к услугам желающего в нем попутешествовать и, в виде утонченного и настроен-ного на вкусы и потребности "туриста" сервиса, готов послужить либо терапией от травм настоящего, либо источником вдохновения для творимого путешественником образа его собственного будущего и пока еще не нашедшего воплощения пересотворяемого ego. И все-таки фо-тография - вовсе не автомобиль, или самолет, но не более чем грубые костыли для путешествующего во времени пешехода, сбившего ноги о подробности быта. Её сила - непреложность видимого, эта овеществленная империя света, одновременно является ее слабостью [18]. Слабость эта обусловлена исторической случайностью, в силу которой европейский взгляд на вещи возобладал над остальными, а зрение стало доминирующим каналом восприятия. Эта преобла-дающая редукция прошлого к зримому, и те невосполнимые потери, которые связаны с этой вивисекцией человеческого опыта - не могут не вызывать протеста. Но, в самом деле, что могу я предложить взамен? Фотографии публикуемы, то есть, в буквальном смысле, сконструирова-ны для публичного потребления, а, например, мир запахов, в отличие от зрительных образов, "цитируется" с грубыми цезурами и в условиях жесточайшего диктата нескольких парфюмер-ных компаний и засилья анонимного общественного вкуса (словечко с головой выдающего отсутствия настоящего чутья у его носителей). Доминирующие мнемотехнологии и способы пе-редачи знаний и опыта в современном (и постсовременном) мире прилажены и настроены на визуализацию; ухо тоже используется, но даже для аурицентричных - звучит второй скрипкой: распространенность домашних фонотек, как средств обращения к собственному прошлому, к звуковой ипостаси погребенного временем мира - уступает вездесущности семейных фото- и теперь еще и киноархивов. Но где еще, кроме подвалов виноделов, вы сталкивались с укупоренными экземплярами запахов прошлого? Словом, дела обстоят так, что вместо приглашения вас в пульсирующий, звучащий и благоухающий мир, который удерживает моя память, я вынужден вам подсовывать плоскую версию его визуализированной кажимости. Но даже здесь приходится прибегать к многократному урезыванию и редукции, и вместо оригинала раковины и марки (а 90% очарования марки налима скрывалось не в изяществе ее палитры, а в тонкости и неповторимости ее аромата), я могу лишь привести лишь их фотообразы, к тому же (законы экономики определяют и выбор техник репрезентации) - черно-белые; и вместо 256-цветовой роскоши tif-формата, отраженной в паре миллионов пиксельных микрозеркал, вы получаете плохо пропечатанный примитивистский намек на образ, greyscaled, cropped and downsized (да простит меня читатель за жаргон создателей программы фото-редактора, с помощью которой я редактировал - слышит ли ваше ухо созвучие между редакцией и редукцией? - подсмотренное, или - как в случае марки - дважды подсмотренное у реальности).
Реальность прошлого, прячущаяся в складках времени, ускользает, и требуются значительные усилия и ресурсы, не только душевные и эмоциональные, но также физические и финансовые, чтобы к нему приблизиться. Но если распоряжение тремя первыми видами ресурсов полностью зависело от меня, то наличие четвертого сильно ограничивало доступ если не к миру прошлого в прямом (и идеальном) значении этого выражения, то к наследовавшим ему мирам настоящего, по причине их географической удаленности. Словом, если бы не щедрость двух фондов, о которой я запоздало, но с признательностью упоминаю[19] , не увидели бы вы ни фотографических свидетельств, намекающих на реальное существование ушедшего под воды памяти континента 1960-х гг., ни самого этого "вместозаключительного" послания, спровоцирован-ного поездкой. Ностальгия была опознана мной как еще одной форма власти вещей и мне захотелось разобраться в истоках её силы.
Лекарство от ностальгии - попытка невозможного, стремление вернуться в мир прошлого, чтобы покинуть его, то есть освободиться от его чар. Как обычно, чтобы не возвращаться, нам необходимо вернуться хотя бы однажды… Примерно это я и попытался проделать, уже написав оба приведенных выше доклада и выступив с ними пред учеными собраниями. И как обычно бывает с больными этим недугом, первое же столкновение с реальностью вдребезги разбивает иллюзию, что мы меняемся, а оставленные нами миры пребывают. Таинственная синхронность взросления нас и миров нами покинутых - лучшее подтверждение солипсизму; и это тихое бормотание промеж (и про) себя и шуршание воображаемых бумаг с оттисками воображаемых образов воображаемого мира - все что остается осиротелому сознанию… Это и есть следствия шока от встречи с останками мира, который ты помнишь живым.
 Впрочем, мир моего детства не умер, просто изменился так, что стал с трудом узнаваемым. И дело не только в том, что деревья (и горы и реки) перестали быть большими и весь он как-то съёжился; катастрофически изменилась атмосфера малых и средних городов, их покинутость и заброшенность, обозначившаяся в самом начале 1990-х, пе-решла в иное качество, стало частью не только обветшавших городских ландшафтов, но поселилась в людях. В поездке мне не могло не броситься в глаза, что крупные города и деревня выживают, и даже в чем-то более успешно, чем прежде; но мне трудно найти слова, чтобы описать степень разорения и сопутствующего ему отчаяния населения малых городов, не нашедшего выхода и погибающего от наркомании, пьянства и поножовщины. Впрочем, мир моего детства не умер, просто изменился так, что стал с трудом узнаваемым. И дело не только в том, что деревья (и горы и реки) перестали быть большими и весь он как-то съёжился; катастрофически изменилась атмосфера малых и средних городов, их покинутость и заброшенность, обозначившаяся в самом начале 1990-х, пе-решла в иное качество, стало частью не только обветшавших городских ландшафтов, но поселилась в людях. В поездке мне не могло не броситься в глаза, что крупные города и деревня выживают, и даже в чем-то более успешно, чем прежде; но мне трудно найти слова, чтобы описать степень разорения и сопутствующего ему отчаяния населения малых городов, не нашедшего выхода и погибающего от наркомании, пьянства и поножовщины.
Городской театр, однако, продолжает упрямо существовать, и его труппа, пополнившись молодежью, продолжает ставить спектакли, подрабатывая на дискотеках и утренниках для детей.
Здание театра продолжает гордо возвышаться над потускневшей и переставшей быть центральной театральной площадью, но обрамляющие его здания сильно обветшали, что видно даже на моей фотографии, снятой из арки одного из прилегающих к театру домов. С трибуны напротив одиноко простирает руку к западу еще одно, не упомянутое мною прежде, изваяние вождя, и то-поля за ней по-прежнему прячут за своей шумящей листвой овраг с уходящей на север железнодорожной веткой и текущей на юг речкой Абой. Однако, в отличие от театра, который сохраняется и поддерживается как последний символ былого величия, на трибуне следы обветшания мира явлены весьма отчетливо: люди у власти брезгливо отвернулись от идеологии, которую они же столь запальчиво проповедовали еще так недавно. Теперь коросты и язвы партийности проступили как стигматы на её монументах, и лишь старшее поколение с тоской взирает на руины казавшегося незыблемым, а теперь вытесняемого в небытие мироустройства.
 В моем тоже постаревшем и облупившемся доме, избегнув участи ветшающих вещей, сохранились раковина и монгольский налим; марка сохранила даже свой неповторимый аромат, который, увы, я вам не смогу предъявить, подменив его пока неизвестным запахом какой-то типографской краски, которой будут набраны эти строки. Сохранилась и раковина, утратив, однако, волшебную способность переносить меня в тропики Индийского океана. Вообще обнаружилось, что хватка вещей ослабла, и что они имеют куда большую власть над памятью, нежели над моим сегодняшним мироощущением. И в этом я тоже поспешил усмотреть обветшание уходящей натуры, явно проецируя утрату способности слышать голоса вещей и трансформируя её в немоту мира. В моем тоже постаревшем и облупившемся доме, избегнув участи ветшающих вещей, сохранились раковина и монгольский налим; марка сохранила даже свой неповторимый аромат, который, увы, я вам не смогу предъявить, подменив его пока неизвестным запахом какой-то типографской краски, которой будут набраны эти строки. Сохранилась и раковина, утратив, однако, волшебную способность переносить меня в тропики Индийского океана. Вообще обнаружилось, что хватка вещей ослабла, и что они имеют куда большую власть над памятью, нежели над моим сегодняшним мироощущением. И в этом я тоже поспешил усмотреть обветшание уходящей натуры, явно проецируя утрату способности слышать голоса вещей и трансформируя её в немоту мира.
 В другом городе моего детства, при той же склонности населения к психоделическим экспериментам над собой и обозначившимся тенденциям к опустыниванию ландшафтов и зарастанию душ, некоторые оазисы культуры, как упомянутый мной музей, увеличили свои владения - к прежнему зданию конца позапрошлого века (именно его вы видите на фото) прибавился роскошный купеческий особняк начала века только что минувшего, занимаемый в разные годы советской власти разнообразными её органами - от НКВД до горкома партии. Там я и обнаружил моего знакомца - шамана. В другом городе моего детства, при той же склонности населения к психоделическим экспериментам над собой и обозначившимся тенденциям к опустыниванию ландшафтов и зарастанию душ, некоторые оазисы культуры, как упомянутый мной музей, увеличили свои владения - к прежнему зданию конца позапрошлого века (именно его вы видите на фото) прибавился роскошный купеческий особняк начала века только что минувшего, занимаемый в разные годы советской власти разнообразными её органами - от НКВД до горкома партии. Там я и обнаружил моего знакомца - шамана.
 Впрочем, от шамана остались только муляжи кистей рук и костюм, сбереженный заботами краеведов в музейных запасниках; зал музея украшал другой шаман, облаченный в более богатый наряд, предоставленный, как я узнал позже, его владельцем - Макаром Васильевичем Костораковым. Известный же мне костюм был передан музею художником Д. И. Кузнецовым в конце 1920-х гг., но как он попал к художнику мне выяснить не удалось. Впрочем, от шамана остались только муляжи кистей рук и костюм, сбереженный заботами краеведов в музейных запасниках; зал музея украшал другой шаман, облаченный в более богатый наряд, предоставленный, как я узнал позже, его владельцем - Макаром Васильевичем Костораковым. Известный же мне костюм был передан музею художником Д. И. Кузнецовым в конце 1920-х гг., но как он попал к художнику мне выяснить не удалось. 
Другие герои моего повествования - плетень и луг в находившейся неподалеку деревеньке - предпочли, видимо, не путешествовать во времени, а навеки прописаться в моем детстве. О существовании плетня напоминал лишь завалившийся домик его прежних хозяев, которые, как я узнал, были хотя и крестьянами, но не вполне русскими, так как носили немецкую фамилию Реймеров.
Мое путешествие в собственное прошлое оказалось проектом сугубо утопическим: на его развалинах я не смог обнаружить даже следов своих прежних воплощений. Вместо этого я обрел нечто совершенно неожиданное - моих пращуров. Судя по особым образом завязанным платкам женщин и бороде прадеда, а также глухим намекам троюродной бабушки, предки мои были старообрядцами. Их неодобрительный взгляд в упор с пожелтевшего фото, на меня, вас и грядущую эпоху, уже даже в сибирской глубинке начинавшую заигрывать с Мнемозиной, ставит многоточие в затянувшемся путешествии по временам и эпохам, оставляя нам то ли надежду на его продолжение, то ли про-сто графический образ ушедшего мира, от которого осталось лишь многоточие их взгляда…
[1] Достаточно упомянуть критику техники и "мира постава" у М.Хайдеггера и работу Ж.Бодрийяра "Система вещей" (Gallimard, 1991; пер.: М.: Рудомино, 1995).
[2]Обзор существующих в отечественной этнографии жанров выходит за рамки этого введения; его цели - обозначение выбора жанра как проблемы; в силу этого обстоятельства я совсем не останавливаюсь на рассмотрении и оценке специфики отечественных "крупных форм" - монографий и тематических сбор-ников, хотя, в скобках замечу, что этнографическая монография в классическом понимании как некото-рое стремящееся к полноте и завершенности "комплексное" описание жизни конкретного человеческого сообщества - практически неизвестна российской этнографии последней четверти XX века.
[3]И, добавлю, политических стратегий. Здесь, как и везде со времен Платона и Аристотеля, политика и поэтика оказались связанными, что лишний раз подчеркивает значимость выбора жанра при изложении результатов любого вопрошания.
[4] К наиболее известным работам с обсуждением этой проблематики относится пионерская работа Эдвар-да Саида (E.W. Said. Orientalism. - N.Y.: Pantheon Books, 1978). См. также: H.K. Bhabha. Nation and Narra-tion. - L. etc. : Routledge, 1990; Ibid. The Location of Culture. - L. etc. : Routledge, 1994.
[5]Об этих жанровых возможностях в рамках обсуждения релятивистской и позитивистской исследова-тельских программ в этнографических исследованиях я уже прежде писал. См. в: Соколовский С.В. Этно-графические исследования: идеал и действительность // Этнографическое обозрение. - 1993, №2-3.
[6]В дальнейшем для удобства для термина автоэтнография я буду использовать аббревиатуру АЭ, а для терминосочетания автоэтнографический жанр - АЭЖ.
[7]В соответствии с концепциями проекции и проективного мышления в различных направленях психоте-рапии утверждается, что странное и интересное в чужой культуре не даны сами по себе в своем притя-гательном качестве, но обращают на себя наше внимание благодаря тому, что оказываются связанными с нашими внутренними проблемами, психологическими барьерами, вытеснениями, психотравмами и т.п.).
[8]J.Clifford. The Predicament of Culture.- Cambridge (Mass.), 1988. - p.130. См. также: G.L.Marcus, M.M.J.Fischer. Anthropology as Cultural Critique. Chicago and London, 1986. -pp.13-15.
[*]Доклад на секции "Закон, знание и власть в постколониальной и постсоциалистической антропологии" (конференция "Власть и иерархия", Москва, 17 - 20 июня 2000 г.)
[9]Miller A. For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. - New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1984; Ibid. Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries. - New York: Anchor Books, 1990.
[10]Miller A. For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. - New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1984, p.75
[11]Для невнимательных читателей напомню, что дисциплинирование, и все процедуры воспитания и обу-чения, направленные на формирование соматических рефлексов подчинения, составляют неотъемлемую часть оперирования власти в любых культурах.
[*]Доклад на конференции "XX век: эпоха, человек, вещь" (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, 14 февраля 2000 г.).
[12]Параллельная инверсия - опасность диковинных вещей из чужих миров сегодня переосмыслена как опасность для вещей ("Трогать руками запрещено!").
[13] В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. - М., 1994. - стр.354.
[14]Во многих европейских языках существуют детальные классификации окулярных модусов. Например, описанные различения в английском языке могут быть переданы глаголами gape/stare/goggle - look/observe/examine - contemplate/behold/scrutinize.
[15]Иногда посуда вместе со столовыми приборами и украшениями именовалась утварью, но значительно чаще я сталкивался со словоупотреблением, в котором утварь приравнивалась лишь кухонной утвари, а украшения исключались из объема понятия.
[16]И здесь пролегает еще одна плохо демаркированная граница между вещами и мусором, в каждой культуре - своя, но ее рассмотрение увело бы нас слишком далеко от рассматриваемой здесь темы.
[17]Уступаю потребности напомнить читателю, что результат даже так называемой "моментальной фото-графии", психологически воспринимаемый как фиксация настоящего, по интенции вдохновляющего её жеста есть прежде всего обращение из еще не ставшего будущего к становящемуся прошлому. Кроме то-го, и в обыденном представлении фото остается всего лишь химическим следом уже ушедшего в про-шлое мгновения.
[18] Напомню, что я рассматриваю здесь стратегии визуализации исключительно в их инструментальной роли, в горизонте конструирования прошлого и поисках идентичности, так сказать, по направлению к Свану, и следовательно, все высказываемые здесь соображения остаются частными и теряют всякий смысл вне этого контекста.
[19]Оба почтенных учреждения (а именно, Research Support Scheme, grant #1005/2000 и J.D. and K.T. Mac-Arthur Foundation, grant #00-62615-000) не несут никакой ответственности за этот, имеющий сугубо кос-венное отношение к финансированным им проектам, побочный продукт моей поездки по Западной Сибири, что не отменяет для меня, тем не менее, необходимости засвидетельствовать мою благодарность и за возможность осуществления запланированных исследований и за незапланированные и несанкционированные этими организациями впечатления от прикосновения к "окаменелостям" ушедшей эпохи моего детства.
Здесь вы можете обсудить статью
|