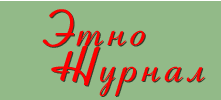

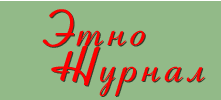 |
 |
БиблиотекаВ. С. Чураков [*]К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ УДМУРТСКИХ РОДОВ За почти полутора вековой период, в течение которого родовая система удмуртского традиционного общества находится в поле зрения исследователей, учеными не было предложено убедительного решения интересующей нас проблемы, а именно не выявлена лингвистическая модель, в соответствии с которой образованы названия удмуртских родов. Разделяемая в настоящее время многими исследователями и признаваемая “перспективной” гипотеза М. Г. Атаманова, связывающая происхождение названий большинства удмуртских родов непосредственно с тотемическими верованиями предков удмуртов, живших в эпоху “матриархата” (sic!), при ближайшем критическом рассмотрении оказывается основанной на целом ряде ошибочных суждений некоторых авторов последней четверти XIX – середины XX в., не сумевших дать верную интерпретацию накопленному этнографическому материалу и в значительной степени осложнивших решение самой проблемы невольно созданной ими путаницей в употреблении удмуртских терминов vyzy и vorsud. Последствия этой терминологической неразберихи ощущаются до сих пор, и выражаются, прежде всего, в употреблении сторонниками воршудной теории[1] понятия vorsud в значении ‘материнский род’. В действительности же словом vorsud обозначался дух предка-покровителя патрилинейного рода vyzy. В самом названии духа предка-покровителя (vorsud < *vordemsud ‘пестованное счастье’) отразилась забота об умершем предке, дух которого, по представлениям некрещенных удмуртов, покровительствовал потомкам (отсюда и его второе название sudvordis, которое можно перевести как ‘одаривающий счастьем’, букв. ‘рождающий счастье’). Смешение двух совершенно различных терминов, а также отход от взгляда на удмуртский род как на цепь сменяющих друг друга поколений, происходящих от одного мужского предка, на наш взгляд, являются основными причинами безуспешности многочисленных попыток решения проблемы происхождения удмуртских родовых названий. Еще в 1733 г. Г. Ф. Миллер, проезжая во главе сухопутного отряда Великой Северной экспедиции по территории расселения удмуртов, обратил внимание на следующий факт: “Они (удмурты – В. Ч.), – писал профессор, – к именам некоторых деревень прибавляют слово Пилга, а к другим не прибавляют, чему они не причины показать, ни слова Пилга изъяснить не могут: но только объявляют, что оные места их предками так прозваны”[2] . Безусловно, сейчас вполне очевидно, что Г. Ф. Миллер обратил внимание на отражение в топонимии названия одного из удмуртских родов, однако поскольку сама проблема удмуртской родовой системы и тесно связанный с нею вопрос о происхождении родовых имен еще не были сформулированы, привлекшее внимание ученого явление вошло в его работу лишь в качестве “примечания”. Целенаправленные исследования по затронутой нами теме развернулись с 70-х гг. XIX столетия, но сразу же, по причине пристального внимания этнографов к особенностям удмуртских народных верований, приняли весьма своеобразный характер: родовую систему удмуртов стали изучать не на прямую, чему к тому же препятствовало отсутствие ранних исторических источников, а опосредованно, через наиболее очевидные ее проявления в виде родовых культов. Исследователи заметили, что разные группы удмуртов при обращении к “божеству” vorsud упоминают различные имена. Например, зачин обращения-kuriskon’а мог начинаться “Bigra vorsude…”, “T’sabja vorsude…” и т. д. Cправедливо видя в vorsud’е духа-покровителя тех лиц, которые ему поклоняются, некоторые исследователи совершенно ошибочно сочли, что слово, стоящее перед термином vorsud, является личным именем духа-покровителя, которое переносится и на почитающих его людей[3] . Иными словами, названия удмуртских родов vyzy рассматривались в качестве производных от личных имен их vorsud’ов, чем и объясняется появление в литературе понятия воршудное имя. При этом Б. П. Гаврилов, отмечая, что значение названий воршудов “неизвестно”, тем не менее высказал следующую мысль: “Можно полагать, – писал он, – что они (воршуды – В. Ч.) получили свои имена от счастливых по понятию вотяков женщин”. Насколько адекватно автором было отражено “понятие” удмуртов, можно судить по его следующим словам: “Ныне у вотяков трудно добиться какого-нибудь самостоятельного мнения или понятия о воршудах”. Со своей стороны отметим, что причиной, побудившей Б. П. Гаврилова и ряд других исследователей говорить о воршудных именах как о женских, явилась широко распространенная у многих народов традиция именования замужней женщины по ее родовому имени, что объясняется стремлением выделить жену-чужеродку из числа кровных родственников ее мужа. Совершая в 1881 г. поездку по южной окраине Вятской губернии, населенной преимущественно удмуртами, Г. Н. Потанин, как в свое время и Г. Ф. Миллер, обратил внимание на “странные”, по его мнению, “как будто заимствованные из чужого языка” имена, встречающиеся в составных названиях удмуртских деревень и урочищ. Исследователем было отмечено, что своими окончаниями они “похожи на имена некоторых воршудов, приводимых г. Гавриловым”. “На это – иногда совершенно полное сходство названий урочищ с именами воршудов, – продолжал автор, – можно смотреть отчасти как на помеху предположению, что эти странные имена чужды вотскому языку; они могут быть архаическими вотскими формами, сохранившимися вследствие своего важного значения без изменения, тогда как другие формы постоянно изменялись” [4]. Этим выводом Г. Н. Потанин как бы признавал ошибочность предложенных им самим, явно надуманных, сопоставлений “странных имен” с созвучными словами мордовских, татарского и “варяжского” языков. Исключительно историографический интерес представляет суждение о происхождении разных имен воршудного божества, высказанное в частной беседе с Н. Г. Первухиным о. Иоанном Утробиным, который, видя в самом vorsud’е некий скрытый родовой талисман, полагал, что его названия у разных групп удмуртов связаны с местами, в которых тот ими укрывался. Впрочем, как пишет Н. Г. Первухин, Утробин “не мог указать (даже и примерно) значение ни одного из воршудных имен”[5] . Ничем не обоснованное предположение о женском характере так называемых воршудных имен, высказанное Б. П. Гавриловым, получило широкое распространение в работах исследователей. В этой связи особый интерес представляют “Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда” Н. Г. Первухина, где эта гипотеза получает свое дальнейшее развитие. Вместе с тем, необходимо особо обратить внимание читателя на изменение содержания термина воршудное имя автором “Эскизов”. По представлению Н. Г. Первухина: ““Воршуд” значит родовое божество (Лар древних римлян), у каждого рода носящее родовое название чрез прибавление к общему понятию “Воршуд” имени родоначальника, или (едва ли не скорее) родоначальницы”. Далее автором утверждалось наличие у удмуртов родов, состоящих исключительно из женщин, происходящих от одной родоначальницы, причем обозначались якобы эти роды также словом vorsud. Таким образом, очевидно, что употребляя термин воршудное имя Н. Г. Первухин вкладывал в него отличный нежели, к примеру, Б. П. Гаврилов, смысл, а именно – это название рода, состоящего исключительно из лиц женского пола, происходящих от одной родоначальницы, имя которой и выступает в качестве родового (ср. “Значение слова “Воршуд” есть – род, поколение, – относящееся исключительно к лицам женского пола. Это – фамилия матери, переходящая через дочку ко внучке и таким образом сохраняемая в потомстве” [6]). Адекватную оценку вышеприведенным построениям Н. Г. Первухина, которые до сих пор пользуются поддержкой ряда авторов, еще в конце XIX в. дал в своей, к сожалению не увидевшей свет по причине смерти автора, работе вятский краевед П. М. Сорокин. Назвав рассуждения Н. Г. Первухина “непоследовательными и путанными”, он высказал сожаление, что ради “предвзятой идеи” был “неправильно истолкован собранный богатый материал” [7]). Значительные усилия для постижения “тайны” удмуртских родовых названий приложил И. Н. Смирнов. Он первым подметил двусмысленность употребления исследователями понятия воршудное имя. “Иногда говорят о воршудном имени, как о родовом прозвище, – писал он, – иногда говорят об “имени воршудного божества”, которое передается поклоняющемуся ему роду”. Позиция самого исследователя однозначно выражена в следующих словах: “Воршудное имя представляется прозвищем рода, переносящимся и на его покровителя, гения-хранителя счастья”. В принципе избрав верный подход, более того, отмечая, что в пермских языках “люди, связанные кровным родством, обозначались терминами “корень” (vyzi, vuz)”, И. Н. Смирнов тем не менее продолжил традицию употребления термина воршудное имя в значении ‘название рода’. Относительно же собственно происхождения названий родовых имен им было высказано три гипотезы: 1) одна группа родовых имен образована от личных имен родоначальниц, в чем автор видит “обломок древнего матернитета” (в основе этой гипотезы лежали выводы главным образом Н. Г. Первухина, а также результаты неудачного анализа удмуртских терминов родства, проведенного самим И. Н. Смирновым); 2) вторая группа родовых имен образована от личных имен родоначальников; 3) “По крайней мере, – считает И. Н. Смирнов, – часть родовых имен произошла от названий рек, на которых поселялись роды”. Пытаясь выяснить какие же антропонимы лежат в основе родовых названий И. Н. Смиронов, используя метод формального звукового соответствия, пришел к выводу, что подавляющее большинство удмуртских родовых имен “необъяснимы из вотского языка и должны быть отнесены к категории заимствованных и вероятнее всего у чуди”[8] . В число “чудских” имен И. Н. Смирнов включил те, которые, по его мнению, имели окончания -si, -tsi, -zi. Однако следует сразу же заметить, что указанные “окончания”, выделенные на основании “анализа местных названий”, присущи русифицированным формам удмуртских топонимов (напр. удм. Kaksa > рус. Kaksi, удм. Jattsa > рус. Jattsi, удм. Suddza > рус. Sudzi и т. д.) и, таким образом, не представляют какой-либо пользы в деле решения проблемы происхождения названий удмуртских родов. Столь же беспочвенны утверждения исследователя о “речных” корнях некоторых родовых имен. Оригинальной, но весьма далекой от действительности была и версия происхождения интересующих нас названий, предложенная в 90-е гг. XIX в. Н. Н. Блиновым. Автор, не видя в vorsud’е ни родового духа-покровителя, ни собственно рода, обозначаемого им термином vyzy, и используя при реконструкции религиозных представлений удмуртов диалектное слово vuzsud[9] , которое по его мнению выражает некое представление о “старых добрых временах”, возвращения которых удмурты испрашивают у Inmar’а (верховного бога), тем не менее употребляет в своей работе термин воршудное имя в значении ‘название рода’, не забывая, впрочем, отметить, что это делается вследствие сложившейся в этнографической литературе традиции. Собственно же географическая распространенность одних и тех же родовых имен, по мнению Н. Н. Блинова, возникла в результате образования новых починков и выселков, жители которых, в целях сохранения счастья (vuzsud), которым располагали их предки, старались отразить в названиях новых селений имя старого. Как полагал Н. Н. Блинов, часть названий изначальных селений могла образоваться путем прибавления к словам, характеризующим местность или именам собственным основателей селений, форманта -ga, связанного якобы с удмуртским словом gu ‘яма’. Такое сопоставление объяснялось тем, что либо вокруг селений было много ям и оврагов, либо его основатель жил в “яме”, т. е. землянке [10]. Несмотря на малоубедительный характер всей вышеописанной схемы, эта версия была признана некоторыми авторами в качестве вполне приемлемой для объяснения родовых имен, оканчивающихся на слог -ga[11] . К числу уже рассмотренных “окончаний”, выделенных в структуре удмуртских родовых имен, М. Г. Худяков в одной из своих ранних работ, затрагивающих обсуждаемую проблему, присовокупил еще два: -ja и -ra [12] . Если от выделения последнего, впрочем, он скоро отказался, поскольку пришел к заключению, что “звук “р” относится к первой составной части имени”, то первое окончание он попытался сопоставить с якобы зафиксированным в словаре коми языка Г. С. Лыткина словом jaj, которое кроме ординарного значения ‘мясо’, еще выражало понятия ‘ветвь, потомство, племя’ (в действительности у Г. С. Лыткина отмечено только первое значение). Приведенные далее этимологии типа Sudja ‘счастливое племя’, Udja ‘вотское племя’, Bodja ‘пастушеское (или луговое) племя’ и т. п., свидетельствуют, что исследователь не склонен был видеть в родовых названиях отражения имен или прозвищ родоначальников, как это делали, например, Н. Г. Первухин, И. Н. Смирнов, Н. Н. Блинов и др[13] . Позиция автора – “первичным понятием является род, а затем уже название его было перенесено на возникшее позднее понятие женщины-родоначальницы и богини счастья” [14]– в дальнейшем позволила ему с легкостью принять концепцию тотемического происхождения названий удмуртских родов. Собственно первым исследователем, выдвинувшим тезис о тотемическом характере удмуртских родовых названий и употребившим термин vorsud в значении ‘род’ как “коммунистическая ячейка” первобытного общества, стал удмуртский этнограф В. А. Максимов, автор компилятивного сочинения “Вотяки” (1925). “Среди названий воршудов, перечисленных Первухиным, – писал он, – мы видим “юсь”, что означает по русской терминологии – лебедь. В отношении остальных названий о их значении сейчас судить очень трудно. Возможно в будущем установить удастся и это, сравнением аналогичных слов родственных вотскому, языков пермятского и зырянского. Но одно название “юсь” (лебедь) дает нам уже некоторую возможность судить о тотеме (покровителе) лебеде” [15]. Поверхностность данного суждения очевидна, и именно от этого в свое время предостерегал однофамилец В. А. Максимова – русский этнограф А. Н. Максимов, проанализировавший характер употребления термина тотемизм в научной литературе и пришедший к выводу, что он превратился в “убежище, к которому можно без дальнейших околичностей обратиться”. В статье “Тотемизм”, подготовленной для энциклопедического словаря “Гранат” А. Н. Максимов в частности писал, что у подавляющего большинства народов Сибири “столь же мало оснований считать тотемическими роды, называющиеся по животным, как и наши фамилии “Барановы”, “Волковы”, “Медведевы”, “Петуховы” и т. п.” [16]. Однако это принципиальное замечание, а также перекликавшееся с ним высказывание М. Т. Маркелова в рецензии на книгу Н. Н. Поппе и Г. А. Старцева “Финно-угорские народы”, Л., 1927: “Не всякая зоолатрия будет пережитком тотемистических представлений” [17], – остались незамеченными: поиск тотемов в названиях родовых имен удмуртов продолжили М. Г. Худяков и Д. К. Зеленин. При этом первый, в отличие от В. А. Максимова употребляя в отношении удмуртских родов термин vyzy, окончательно отошел от их восприятия как социального института, в основе которого лежит генеалогический принцип, и, увлекшись идеями Н. Я. Марра о “тотемической” стадии развития языков, попытался при помощи “нового учения о языках” решить проблему названий удмуртских родов, что вылилось в характерную для яфетидологии спекуляцию на тему “четырех элементов” [18]. Для Д. К. Зеленина термин vorsud помимо обозначения “одного из дохристианских демонов” и лубяного короба, хранившегося в куале, имел значение еще и “родового имени” (sic!), которое было связано, по мнению исследователя, с основным “растительным тотемом материнского рода” и “элементами животных тотемов”. Умозрительные рассуждения автора об эволюции значений термина vorsud иллюстрировались примерами, описывающими использование тех или иных видов растений при религиозных обрядах, и фонетическими соответствиями, носящими преимущественно характер омонимии, отдельных родовых имен с некоторыми названиями животных в удмуртском языке [19]. Сходный подход к решению проблемы во многом свойственен авторам конца 60-х гг. XX в. – Г. А. Архипову и С. К. Бушмакину, которые употребляют термин vorsud в значении ‘материнский род’[20] . Первый из них, не считая возможным видеть в выделенных предшественниками “окончаниях” родовых (воршудных по его терминологии) имен самостоятельные слова, высказал предположение, что все они являются вариантами суффикса обладания, который “почему-то выступает то в форме -а, то -я, то -га(-ка), и очень редко в форме -ес”. С середины 70-х гг. проблемой происхождения названий удмуртских родов стал заниматься М. Г. Атаманов. Одни из первых результатов своих изысканий он опубликовал на страницах журнала “Советское финно-угроведение”, где впервые появляется столь активно употребляемый сейчас термин воршудно-родовое имя, которому в удмуртском тексте предшествовал конструкт выжы-воршуд ним. В более развернутом виде концепция автора была отражена в кандидатской диссертации “Этнонимы удмуртов в топонимии” (1978) и последующих публикациях, в числе которых и его последняя обобщающая работа “По следам удмуртских воршудов”[21] . Нет необходимости разбирать все оплошности в представлениях автора по проблеме удмуртской родовой организации, оказавших существенное влияние на ход его рассуждений, остановимся только на лингвистической составляющей его концепции. Фактически подход М. Г. Атаманова является логическим завершением использования метода выделения “окончаний” в структуре удмуртских родовых имен: более 70 родовых названий по своим “окончаниям” были распределены по 9 группам (10 группу составили “составные микроэтнонимы”). Другими словами, все варианты “окончаний” или, что более правильно, все варианты конечных слогов (!) были безосновательно объявлены “архаическими суффиксами зоонимов, восходящими к уральской или финно-угорской языковой общности”, которые присоединяются к названиям “птиц, зверей, насекомых и рыб – предполагаемых тотемов рода”. При этом автора не смущает, что в ряде случаев применение его методики приводит к искажению морфологической структуры этимологизируемого названия, не говоря уже о том, что в основу подавляющего большинства предложенных им этимологий положен принцип формального соответствия “очищенного” от форманта родового имени тому или иному апеллятиву какого-либо уральского, включая “чудский”, языка. Очевидно, что такой подход к решению проблемы не мог привести к положительным результатам, однако в опубликованной рецензии на диссертацию официального оппонента В. К. Кельмакова методика М. Г. Атаманова названа “простой, удобной и рациональной”[22] . Первым критическим отзывом на методы работы М. Г. Атаманова стала статья венгерского исследователя Козмача Иштвана “Az udmurt vorsud-nevekrol” (“Об удмуртских воршудных именах”). Автор, отмечая морфологические нестыковки в работе М. Г. Атаманова, сразу же отбрасывает большую часть из выделенных им суффиксов, оставляя лишь -ja, -ga, -a. Венгерский ученый возводит первые два суффикса соответственно к прауральскому *-j- и прафинно-угорскому *-nk-, относительно суффикса -a говорится о его родстве с суффиксом прилагательных современного удмуртского языка -o < *-a[23]. Однако пытаясь объяснить происхождение удмуртских родовых названий исключительно на основе лингвистических данных (затрагивая вопрос о правомерности характеристики удмуртских родов как тотемических и матриархальных, Козмач оставляет его открытым) он фактически совершает логическую ошибку, поскольку не определив сущность удмуртских родов невозможно говорить о лингвистической модели, лежащей в основе их названий. Между тем, верное представление о происхождении удмуртских родовых названий впервые было сформулировано еще в 80-е гг. XIX в. удмуртским ученым Г. Е. Верещагиным, который справедливо полагал, что члены рода ведут свое начало “от какого-нибудь древнего родоначальника”, имя или прозвище которого выступает в качестве обозначения его потомков. В качестве примера он приводит предание удмуртских крестьян ряда деревень Сосновской волости Сарапульского уезда, согласно которым род Pupja ведет свое начало от некоего Ожмега, прозванного Puppy < удм. puppy ‘лутошка’[24] . Поскольку исследователь специально не занимался проблемой происхождения названий удмуртских родов, он оставил без объяснения причины перехода Puppy в Pupja. Это попытался сделать другой удмуртский ученый И. В. Васильев, который высказал предположение, что данное родовое имя образовано путем прибавления к прозвищу удмуртского аффикса соответственного падежа -ja. Таким образом, получалось, что члены рода жили как бы соответственно их предку Puppy, по его обычаям [25]. Ближе всего к верному решению проблемы подошел уже упомянутый выше П. М. Сорокин, и приходится только сожалеть, что подготовленная к публикации, прошедшая цензуру работа “О материнстве как основе рода, о родовых названиях и знаках собственности у вотяков”, в которой дается взвешенная и объективная критика сторонников удмуртского “матернитета”, так и не увидела свет. Вдвойне прискорбно, что эта работа, знакомая удмуртским исследователям, не оказала какого-либо влияния на их отношение к так называемым “пережиткам матриархата”, несмотря на то, что их подробный анализ дал повод П. М. Сорокину категорически заключить – “под теорией “матернитета” нет почвы”. Уже по сложившейся традиции употребляя термин воршудное имя в значении ‘название рода’, П. М. Сорокин отмечал: “Воршудное имя есть имя родоначальника или родоначальницы, заслуживших особый почет и поэтому давших повод к прославлению себя в своем прямом потомстве… воршудное имя не есть непременно имя, а может быть и прозвищем родоначальника”. О структуре удмуртских родовых названий говорилось: “При обзоре приведенных названий бросается в глаза общее у большинства окончание а или я, составляющее какой-то особый суффикс…Представляю знатокам финских наречий судить о моей догадке, но я считаю эти звуки а и я несомненно суффиксами 1) притяжательного значения и 2) значения богатства, изобилия какого-нибудь свойства”. Дав несколько вполне приемлемых этимологий, П. М. Сорокин писал: “Я не теряю надежды, что филолог с сведениями в языках сумеет дать смысл и объяснить из вотского языка и все остальные воршудные имена” [26]. Надежда исследователя не оправдалась: лингвисты, которым оставалось уточнить что за суффикс, на который впервые обратил внимание еще М. Бух[27] , скрывается под “загадочным” общим “окончанием”, предпочли проигнорировать наблюдения П. М. Сорокина. Переходя к изложению наших взглядов по обсуждаемой проблеме, еще раз напомним читателю, что удмуртский род vyzy представляет собой по вертикали ряд сменяющихся поколений, происходящих по мужской линии от вполне конкретного, чем-то памятного человека, имя которого служит для общего наименования всех его потомков. Соответственно по горизонтали удмуртский род предстает в лице всех одновременно живущих людей, признающих себя потомками одного человека, и чем дальше по времени находится конкретный горизонтальный срез от той эпохи, в которой жил основатель рода, тем менее тесными узами связаны его члены. Как правило, быстрее всего, буквально в первых нисходящих поколениях, утрачиваются экономические связи и общность поселения, что на практике выражается в разделе старого дворохозяйства. Напротив, дольше всего сохраняется идеологическое единство, обусловленное поклонением предку-родоначальнику, дух которого по представлениям его потомков может оказывать влияние на их судьбу. Естественное разрастание рода ведет к его сегментации и образованию ряда новых ветвей рода, получающих название по своим основателям и т. д. Так образуется целая иерархия родов, причем человек, находящийся в основании подобного “генеалогического древа” и уже даже неосознаваемый в качестве реального человека, также, безусловно, являлся членом какого-то рода, имя которого стерлось из памяти далеких потомков. Лингвистическим средством выражения принадлежности человека к тому или иному роду являлось родовое имя, в основе которого лежал эпоним, т. е. имя или прозвище основателя рода. В современном удмуртском языке существует несколько способов образования названий родов: 1) путем прибавления к имени предка слова vyzy ‘род’ (Gondyr vyzy), 2) прибавлением к имени предка слова pi ‘сын, потомок’ (Bydypi) 3) через прибавление к имени предка или через прибавление к имени рода, образованного в соответствии со вторым примером, показателя множественного числа -(j)os (Gondyrjos, Bydypios). К числу указанных возможностей следует прибавить еще один вариант, ныне уже не употребляющийся. Удмуртский показатель множественного числа, который, как указано в последнем примере, используется в образовании родовых имен, не имеет параллелей в других уральских языках, и относится вместе с коми jas к числу относительно молодых, возникших не ранее общепермской эпохи. Однако в общепермском языке существовало еще не менее трех древних окончаний множественного числа, одно из которых -a до сих пор употребляется в коми-пермяцком языке в качестве собирательного множественного числа[28] . Нам представляется, что и в группе ранних удмуртских родовых имен нашел отражение этот суффикс[29] , который в функциональном плане соответствует, к примеру, германским родовым суффиксам -ing, -ung (ср. Karoling) и славянским -ичи, -овичи (ср. Рюриковичи). В пользу данного предположения свидетельствуют такие родовые имена как, Juber-a Udeg-a, а также отмеченные для родовых прозвищ Bigra, Poska формы Biger-a, Posek-a [30], где Juber, Udeg, Biger, Posek – это удмуртские мужские антропонимы (ср. Юберь Бектамышев, Удешко Бырдычев, Бигер Вася, Исуп Посегов). Прибавляясь к эпониму, оканчивающемуся на гласный, суффикс собирательного множественного числа провоцировал появление вставочного -j-[31] , после чего оказавшийся в слабой позиции гласный производной основы выпадал (напр. Bodja < Bodi + -a, в случаях, когда в ауслауте антропонима находился -i он мог непосредственно перед суффиксом -a перейти в -j, подобно тому, как это происходит в сходных условиях в языке коми [32]). Если показатель собирательного множественного числа прибавлялся к мужскому антропониму, который оканчивался на согласный, то предшествовавший ему гласный, оказавшийся в слабой позиции также в большинстве случаев выпадал, а следующий согласный испытывал действие закона регрессивной ассимиляции [33](напр. Mozga < Moseg + -a). В этой связи хотелось бы отметить догадку А. С. Кривощековой-Гантман о возможной связи мужских имен, образованных при помощи суффикса -eg(-og), с родовыми названиями, оканчивающимися на слог -ga[34] . Однако ее предположение, что в парах типа Peleg~Pelga, Pudeg~Pudga и т. д. родовое имя является исходным для мужского антропонима, не позволило исследовательнице вскрыть действительные отношения, существующие между ними. Последующие фонетические изменения, как то – изменение качества гласных (напр. Pudga < Podga < Podeg + -a, Purga < Porga < Poreg + -a), ассимиляция инлаутным согласным последующего -j – происходили в соответствии с нормами удмуртского языка (напр. Kussa < Kusja < Kusej + -a, Suddza < Sudja < Sudej + -a). Таким образом, родовые имена не были застывшими формами, как это в свое время представлялось Г. Н. Потанину. Итак, проблема удмуртских родовых названий теснейшим образом связана с выяснением имени родоначальника и выявлением его семантики, что в условиях отсутствия ранних письменных источников вызывает определенные трудности. Однако, как нам кажется, предложенный подход к анализу удмуртских родовых имен в целом вряд ли вызовет существенные нарекания. [*]кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Сфера научных интересов: средневековая этнополитическая история Прикамья, этносоциальная структура удмуртского этноса.
Здесь вы можете обсудить статью
|
Перепечатка материалов возможна только с указанием источника.
Редакция: journal@iea.ras.ru